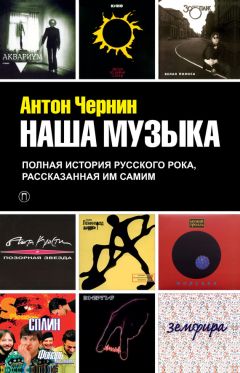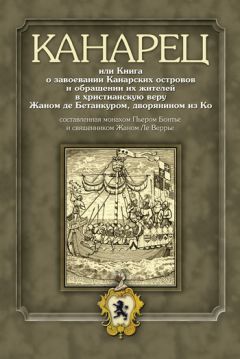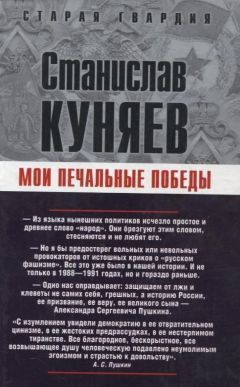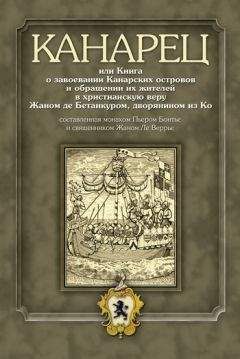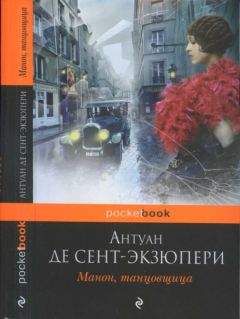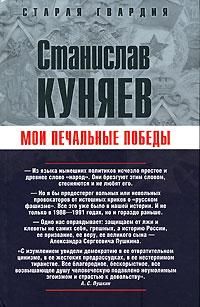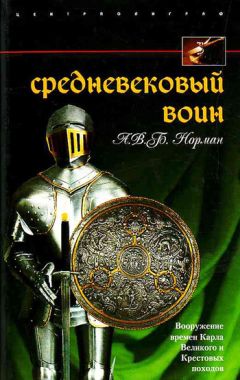Павел Хондзинский - Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи
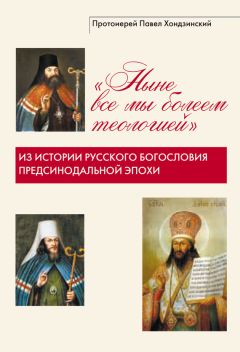
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи"
Описание и краткое содержание "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи" читать бесплатно онлайн.
Монография посвящена истории русской богословской мысли второй половины XVII – начала XVIII в. На материале эпохи прослеживается вхождение русского богословия в «поле напряжения», заданное парадигмами Нового времени, а также начальная рецепция им идей августинизма, оказавшего впоследствии заметное влияние на внутреннее развитие традиции. В приложениях к основному тексту представлены как давно не переиздававшиеся и малодоступные, так и впервые переведенные автором книги на русский язык тексты, относящиеся к теме исследования.
Святитель Димитрий Ростовский родился в 1650 году, а скончался 28 октября 1711 года. Отпевавший его рязанский митрополит Стефан, старинный друг и единомышленник, свое надгробное слово, не раз прерывавшееся слезами, завершил возгласом: «Свят, Димитрий, свят!» При этом не следует думать, что святитель затворился от бедствий времени в молитвенной или ученой келье. Он чувствовал историческое время почти болезненно и удивительным образом вписал себя в него, сделав это в таком интимном документе, как дневник – его знаменитый «Диаруш» с единственным в своем роде зачалом:
«…842 Михаил царь с матерью Феодорою наста и святый Мефодий патриарх наста.
Болгарская земля крестися.
955 Ольга крестися.
1011 Преставися Авраамий Ростовский.
1248 Батый убиен.
1540 Типографское художество вынайдено в немцах.
1637 Кумейщина была за гетмана казацкого Павлюка. Тогда ляхи казаков напав били и война началася.
1650 Я, грешный иеромонах Димитрий, родился от родителей христианских Савы и Марии… Того року была война Радимилова и Киев спален.
1652 Моровое поветрие было великое.
1659 Конотопская война.
1660 Война чудновская и Шеремет убит.
1662 Писати научился…»[334]
Окончив школу Киево-братского монастыря, к тому времени вполне «латинскую» по методе, он принял постриг в 1768 году. Свое первое сочинение, «Руно орошенное», посвященное описанию чудес от Черниговской иконы Пресвятой Богородицы, он написал через семь лет, в 1675 году, за год до этого став иеромонахом и проповедником в Чернигове. В «Руне» уже вполне чувствуется его рука. И здесь тайно присутствует мысль о времени: книга описывает 24 чуда – по числу часов дня и ночи. К каждому чуду прилагались беседа, нравоучение и статья из патерика («прилог») – материал отсюда потом пригодился для Четий-Миней, – но важнее этого было, конечно, первое изложение столь характерного для будущего святителя «богословия Покрова».
Принято упрекать святителя Димитрия за то, что он склонялся к мысли о непорочном зачатии Богородицы, доказательством чего, как правило, приводят слова из его небольшого сочинения «Поклонение Богородице», где говорится: «Покланяюся Твоему безгрешному зачатию и рождению от Святых Ти родителей Иоакима и Анны, и молю Тя, Госпоже моя, даждь ми житие безгрешно зачати и родити покаяние»[335]. Между тем это место нельзя рассматривать вне контекста личного отношения святителя Димитрия к Богородице, которое на самом деле было глубоко традиционным. Чтобы понять это, надо вернуться к временам Киевской Руси.
В почитании Богородицы всегда существовало два акцента: почитание ее как Матери воплотившегося Слова и как «Заступницы рода христианского». И хотя киевский период не дает, или почти не дает, богословских текстов, в которых бы содержательно развивались мотивы второго рода, однако дает, быть может, большее: богословское деяние, напрямую относящееся к затронутой теме. Если до известного времени крупнейшие русские кафедралы посвящались Софии, Премудрости Божией, под которой следует, без сомнения, понимать именно Христа, воплощенную Божию Силу и Божию Премудрость (1 Кор. 1: 24), то однажды происходит очевидный поворот к кафедралам успенским.
На историческом плане это деяние совершил благоверный князь Андрей Боголюбский, ушедший из Киева с иконой Божией Матери во Владимир, чтобы там основать новый центр княжеской власти и новую церковную митрополию[336].
Однако, если отвлечься от политических мотивов этого шага [337], то его также можно связать с возобладанием библейских элементов над византийскими в самоопределении молодой русской традиции. С этой точки зрения князь Андрей совершил как бы исход[338], чтобы на новом месте начать устроение Нового Израиля[339]. Он же построил, как известно, первый храм Покрова, что, в свою очередь, косвенным образом находит отзвук в широком распространении на Руси именно в это время апокрифического сказания «Хождение Богородицы по мукам», где Мать Спасителя выступает как защитница и предстательница пред Богом осужденных за нехристианскую жизнь христиан[340]. Спустя два века после крещения русский человек открыл во Христе-Софии грозный лик Спаса «ярое око» и в сознании собственной безответности перед ним ощутил потребность покрова. Нет нужды специально доказывать, что именно такого рода почитание Богородицы легло в основу всей дальнейшей русской традиции. Спустя шесть столетий святитель Димитрий дал ее богословское обоснование.
Богородица, согласно ему, находится в особом отношении к Лицам Пресвятой Троицы: «…бысть бо Богу Отцудщи; Богу Сыну Мати, Богу Духу Святому… Невеста неневестная… на уневещение Богу Духу Святому взыде девственною чистотою, на матерство Богу Сыну взыде смирением… на дщерство Богу Отцу взыде любовию, теми же степенями и в безсмертном успении Своем на небо ко Отцу и Сыну и Святому Духу взыде»[341].
Богородица занимает особое место в Церкви, «ибо Та сущи дщи Давидова посредствует яко шея между Главою и телом, между Христом, главою Церкве, и между верными, иже суть Телом Церкве его, превосходящи Церковь яко воистину вышше всех сущая, Христа же досяжущи, яко плоть Ему давшая»[342]. И потому даже имя Ее обладает молитвенною силою[343], и потому Богородица не только защита христианам от врагов духовных и телесных, но и более того: Она покрывает их «крылома милости Своея от казни Божия, якоже кокош птенцы своя от пазноктей орлия. Сокрывает от лютаго прещения Господня, якоже мати чадо свое под ризу Свою от некоего страха, покрывает от праведнаго суда Божия, и от мести Омофором заступления Своего»[344].
И если Господь разделил стадо свое на два: «овец и козлищ» – праведников и грешников – и поставил Петра пасти овцы своя, то грешников – «козлищ» – пасет Богородица, Которая «тщится их из козлищ сотворить овцами. Ведущи же яко не возможно им быть овцами донележе не оставят своего безумия, уготова им пажить такову, яже имать некую силу дивную: аще бо кто от безумных тоя вкусит, абие мудр будет… Се дело Матери Божией ко грешникам; чистой Девы к скверным беззаконникам, да их уцеломудрит, вразумит и ко спасению наставит»[345].
Можно было бы говорить о крайностях такого богословия, независимо от того, восходят ли они к древнерусской или латинской традиции, но святитель Димитрий уравновешивал эти крайности неожиданным и резким движением мысли, а точнее – сердца: если мы «уповаем яко Она покрыет ны кровом крилу своею», имея «о чадех Своих прилежное попечение»[346], то чадами Ее могут стать все, в том числе и грешные – «козлища», но лишь там, где Господь усыновил ей Своего ученика – при кресте Его. Стоять там – всегда видеть перед собой Распятого Спасителя и сраспинаться ему состраданием, «и возлюбит ны благая всего мира Мати, аще духовное мученичество понесем, аще изволением сотворимся мученики, несть бо Сын Мариин, иже не мученик»[347] (курсив мой. – Прот. Павел).
Тема Богородицы неслучайно сплетается здесь с темой мученичества:«… аще бы всех за Христа страдавших мучеников страдание во едино собрати, то колико их будет? Сия вся совокупя, применить к страданиям Пречистыя Девы Марии: то Она всех более страдаша, аще и не телом, но душею Своею сострадаше неповинно страждущему Сыну Своему и Богу»[348].
В похвалу мученичеству составил святитель и главный труд своей жизни – Минеи. Он принялся за него «из послушания» летом 1864 года. Если «Руно» приносило «на всякий час» суток свою похвалу Богородице, то Минеи вобрали в себя время церковного года. Собственно, тогда уже существовало издание такого рода – Великие Четьи-Минеи святителя Макария, – и первоначально предполагалось, что они будут взяты за основу будущего творения. Но Москва неохотно делилась с Киевом книгами, а кроме того, в руки святителя попали издания болландистов – известные Acta sanctorum, – и в результате он зачастую отдавал предпочтение именно им, найдя в них не только подлинные исторические свидетельства о подвигах древних мучеников, но и самое упоминание о многих из тех, чья память с течением времени выпала из русских месяцесловов[349].
Речь шла не о предпочтении Запада, но о выборе ученого историка[350] и богослова. Это подтверждается тем, что связь с богослужебным годом в Минеях святителя не ограничивалась только последовательностью расположения житий – последние святитель в свою очередь дополнял и расширял за счет текстов богослужебных канонов и стихир[351]. Точно так же, когда речь шла о библейских событиях или жизнеописаниях библейских праведников, он обращался непосредственно к тексту Писания[352].
Отсюда ясно, что он заботился прежде всего о достоверности первоисточника, и таковой при составлении житий для него обладали преимущественно три рода текстов: тексты Священного Писания, древние мученические акты, опубликованные болландистами, и богослужебные тексты[353]. Так возникало пересечение вечности и времени, дающее в итоге ощущение священной истории и жизни в ней, и в этом вновь обнаруживалась органичность преемства с древнекиевской традицией.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи"
Книги похожие на "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Хондзинский - Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи"
Отзывы читателей о книге "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи", комментарии и мнения людей о произведении.