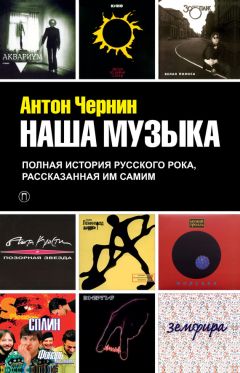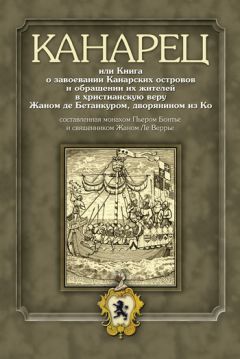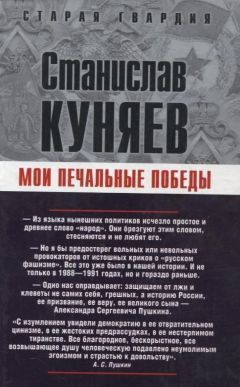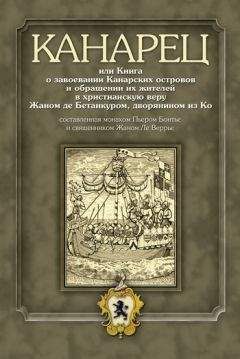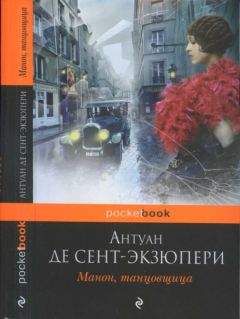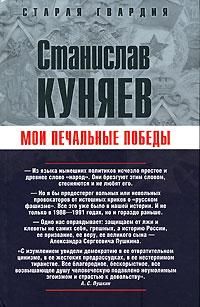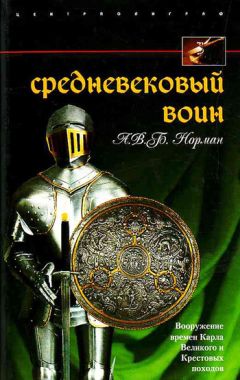Павел Хондзинский - Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи
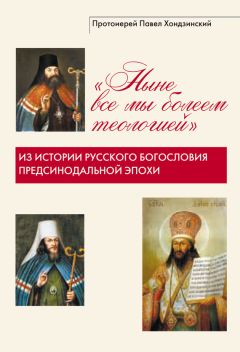
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи"
Описание и краткое содержание "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи" читать бесплатно онлайн.
Монография посвящена истории русской богословской мысли второй половины XVII – начала XVIII в. На материале эпохи прослеживается вхождение русского богословия в «поле напряжения», заданное парадигмами Нового времени, а также начальная рецепция им идей августинизма, оказавшего впоследствии заметное влияние на внутреннее развитие традиции. В приложениях к основному тексту представлены как давно не переиздававшиеся и малодоступные, так и впервые переведенные автором книги на русский язык тексты, относящиеся к теме исследования.
Дело не только в очевидной близости самих принципов работы над текстом – достаточно указать хотя бы на проповеди святителя Кирилла Туровского, в которых авторское слово органично прорастает из бесчисленных библейских и богослужебных аллюзий и микроцитат, – но именно в самом восприятии жизни. Тогда, в Киевской Руси, наглядней всего оно обнаружило себя, пожалуй, в цикле памятников, связанных с именами первых русских святых Бориса и Глеба.
В них страдания святых Бориса и Глеба – ставших, строго говоря, жертвами политического убийства – прямо уподоблялись страданиям Христовым, воспринимались как их проекция, совершались как подражание им и именно поэтому и становились мучением за Христа, что подчеркивалось среди прочего выразительной деталью жития: убийцы приступают к благоверному князю Борису в момент совершения им заутрени и чтения Евангелия, – жизнь и история сливаются с богослужением и становятся им[354]. Та же мысль находила себе выражение в паремиях древней службы Борису и Глебу, где под заглавием «Бытия чтение» рассказывалась история убиения князей-страстотерпцев. Священная история – книга Бытия – прямо продолжалась в истории русского народа[355]. Это подтверждает высказанную выше мысль о библейских (не византийских!) акцентах киевской традиции[356] и лишний раз указывает на невозможность существования pax graeca.
В эту священную историю святитель входил так глубоко, что давал иногда даже ее драматическую реконструкцию, заполняя существующие в источниках пробелы и удивительным образом не утрачивая при этом ощущение внутренней правды текста. Объяснение этому только одно – он сам совершенно органично и естественно жил этой жизнью, и святые, о которых он писал, были для него собеседниками не менее реальными, чем собственные современники.
В 1869 году он внес в дневник описание сна, виденного Филипповым постом 1865 года: «В одну ночь скончав письмом страдания св. мученика Ореста, которого память ноября 20 почитается, за час или меньше до заутрени лег отдохнуть не раздеваясь и в сонном видении узрел святого мученика Ореста, лицом веселым ко мне вещающего сими словами: я больше претерпел за Христа мук, нежели ты написал; сие рек, открыл мне перси свои и показал в левом боку великую рану, сквозь во внутренность проходящую, потом открыв правую по локоть руку на самом противу локтя месте и рекл: сие мне перерезано: причем и видны были перерезанные жилы, также и левую руку открывши, на таком же месте указал такую же рану… В то самое время учиненный к заутрене благовест пробудил меня, и я жалел, что сие весьма приятное видение скоро окончилось…»[357]
Тем же постом он видел во сне и мученицу Варвару. На просьбу умолить Господа о грехах святая ответствовала: «Не ведаю, умолю ли: ибо молишься по-римски. Думаю, – продолжал святитель, – что сие мне сказано для того, что я весьма ленив к молитве и уподобляюсь в сем случае Римлянам, у коих краткие молитвословия, так, как и у меня кратка и редкая молитва. Слова сии услышав от Святыя, начал я тужит и и аки бы отчаяватися; но Святая спустя мало времени воззрела на меня с веселым и осклабленным лицем и рекла: не бойся! И иныя некоторый утешительныя произнесла слова, коих я не вспомню»[358]. Как видно, сам святитель упрек великомученицы отнес вовсе не на счет своих возможных «римских» заблуждений, хотя Москва находила их не только у него, но и у большинства малороссийских богословов, и в связи не только с учением о непорочном зачатии Богородицы, но и с теми же евхаристическими спорами.
По требованию патриарха упоминания о «безгрешном рождестве» Девы были изъяты из Миней. Остались черновые записи святителя, по которым видно, что он размышлял над этим вопросом, стремясь найти у отцов указания, которые бы позволили взвешенно изложить догмат, но не довел работу до конца[359]. Когда же до Малороссии дошли московские споры о времени пресуществления, святитель, очевидно, отозвался на них упомянутым выше трактатом[360], который показывает, что путь к согласию все же существовал.
Трактат начинается с изложения различных точек зрения на вопрос: одни считают, что пресуществление совершается только словами Христовыми; другие «весьма отсекают силу словес Христовых, глаголюще та быти ничтоже действующая отнюдь, но токмо исторически воспоминаемая…»[361]. Но есть и третьи, которые считают, что слова Христовы – начало, а призывание Святого Духа – совершение и одного без другого быть не может: «…к сим и мы прилагаемся» [362].
Далее следует собственно основная часть трактата, которая посвящена вопросу о поклонах и призвана привести к согласию непримиримых спорщиков. Латиняне кланяются на слова Христовы потому, что считают пресуществление уже совершенным, народ же российский кланяется «начатку и основанию пресуществления»[363]. Повторяется аргумент Медведева: в Риме и кресту, и иконам кланяются – неужели мы не будем из-за этого почитать их? «Кланяющеся же в словеса Христова, не римляном подражаем, но свое соблюдаем благоговеинство»[364]. Даже исторически произнесенные слова Христовы могут иметь великую силу, как это произошло со святым Марко Фряческим, который привел в беседе слова Христовы «гора, двигнись в море» – и соседняя гора действительно сдвинулась со своего места. Пусть предложенные дары еще и не «пресуществленны в тело Христово, обаче не суть простый хлеб, но святый и почитания великаго от нас достойный»[365]. Сам образ предложенного хлеба показывает, что это не простой хлеб: «Понеже на нем образ креста Христова и имя Иисус Христово печатню изображено. Аще почитаем крест Христов, на чесом либо изображенный, и покланяемся ему, убо и на хлебе того изображена должни есмы почитати и покланятися. Аще почитаем имя Иисус Христово, на чесом либо написанное и покланяемся тому, то что возбраняет покланятися имени Иисус Христову на святом предложенном хлебе изображенному?»[366]Заканчивается трактат напоминанием о великих русских святых, которые жили в прежние времена, споров нынешних не слыхали, о времени пресуществления вопрошать не дерзали, а только веровали несомненно, что на литургии хлеб и вино истинно пресуществляются в Тело и Кровь Христову. «Сим и мы подражать потщимся, не состязающеся, когда совершаются тайны; аще бы человек знал когда, не были бы тайны, но явны, но Господь тое скрыл от нас, глаголя: не весте, когда Господь Ваш приидет» [367].
Как видно, по спокойной взвешенности своих положений трактат оказывается ближе всего к позиции греческих святых отцов, Николая Кавасилы и Марка Эфесского[368], и это, быть может, важнейший аргумент в пользу того, что именно святитель Димитрий, а не кто иной, мог быть его автором:
«Свят, Димитрий, свят!»
«…Того ж 1689 года, июля 21 дня, с ясновельможным Гетманом Иваном Мазепой выехал я из Батурина в столичный царствующий град Москву… Сентября в 10 день были мы с Ясновельможным Гетманом у ручки Благочестивейшего Царя Петра Алексеевича, в монастыре Троицком, обители Сергия Радонежского: в том же монастыре был в то время и Патриарх, коего посещали мы часто… Святейший благословил мне, грешному, продолжать писанием Жития Святых и дал на благословение мне образ Пресвятыя Богородицы в окладе. В бытность нашу в Троицком монастыре казнено троих знатных особ за некоторый бунт: головы отсечены, а иные кнутом сечены, иным языки резаны, иным уши и в ссылку разосланы.
<…>
1701 год.
В феврале по Указу Царскому приехал в Москву, в неделю о Мытаре и Фарисее, число февраля бе 9.
Поставлен в Архиереи в Сибирь, в неделю Крестопоклонную марта 23 дня.
1702 год.
Януария 4, в неделю пред Просвещением, переведен на Ростовскую Митрополию»[369].
Впервые история привела своего поклонника в Москву в страшные дни. Въехав туда в августе 1689 года, еще при правлении царевны Софьи, малороссы застали бегство Петра в Троицу (куда и сами вынуждены были отправиться вскоре), самый бунт и переворот. Это было первое свидание будущего святителя с Петром. Из Москвы, как только появилась возможность, спешно уехали, не раз, должно быть, благодаря Господа за то, что остались живы. Уже само умолчание о происходящих событиях свидетельствует за себя.
С 1690 по 1700 год святитель работал в Киеве над второй и третьей частью Миней, построив себе для этого специальную келью, и, вероятно, не с легким сердцем покидал ее в
1701 году, будучи вызван в Москву, чтобы быть поставленным в архиереи.
Чуть раньше, в марте 1700 года, его друг, Стефан Яворский, уже был поставлен в митрополиты Рязанские.
Митрополит Стефан надолго пережил святителя Димитрия, но так и не прижился в России, до последних дней стремясь в милую Малороссию.
Святитель Димитрий въехал в Ростов 1 марта 1702 года, во вторую неделю Великого поста[370], и остановившись для молебна в ближайшем к дороге Спасо-Яковлевом монастыре, сразу указал в соборе место своего погребения[371]. Ростов не полюбился ему больше Киева, он не стал великороссом, но он стал русским святым.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи"
Книги похожие на "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Хондзинский - Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи"
Отзывы читателей о книге "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи", комментарии и мнения людей о произведении.