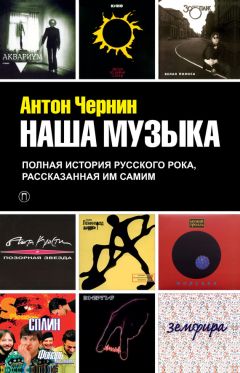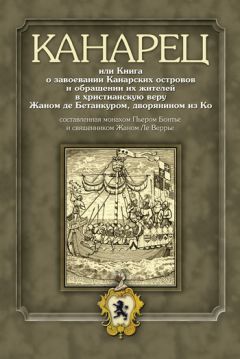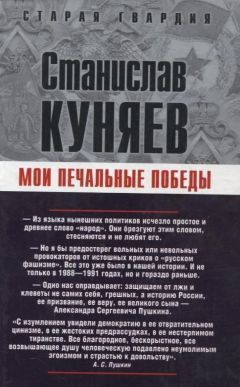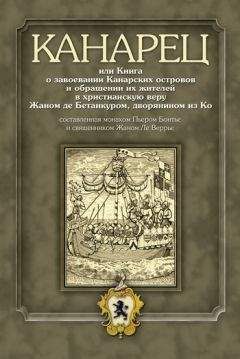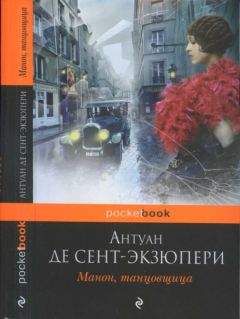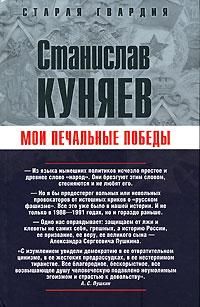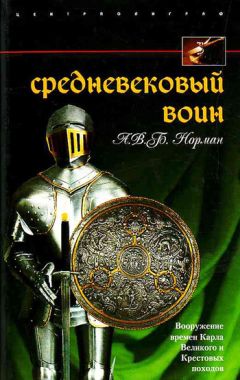Павел Хондзинский - Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи
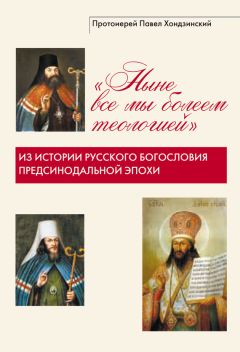
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи"
Описание и краткое содержание "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи" читать бесплатно онлайн.
Монография посвящена истории русской богословской мысли второй половины XVII – начала XVIII в. На материале эпохи прослеживается вхождение русского богословия в «поле напряжения», заданное парадигмами Нового времени, а также начальная рецепция им идей августинизма, оказавшего впоследствии заметное влияние на внутреннее развитие традиции. В приложениях к основному тексту представлены как давно не переиздававшиеся и малодоступные, так и впервые переведенные автором книги на русский язык тексты, относящиеся к теме исследования.
«Восприяв изложение Таинства Литургии от священных Апостолов и от наследовавших им учителей Церкви, ни у кого мы не нашли, чтобы словами Господними, и только ими, освящался и совершался дар Евхаристии, – пишет святитель Марк, – но у всех согласно эти слова приводятся описательно и являются как бы предисловием, ради памяти о совершавшемся тогда событии, и они как бы “влагают” силу предлежащим Дарам для пресуществления и последующих за сим молитвы и благословения священника, чтобы тем действием уже пресуществить Дары в самый Прообраз – Владычни Плоть и Кровь»[323]. И святитель Иоанн Златоуст, и святитель Василий Великий в своих литургиях сперва приводят слова Христовы, чтобы через них возобновить память тех событий и вложить «освящающую силу в совершаемое, но затем молятся и призывают благодать Святаго Духа, чтобы она, пришедши, тогда реченное, ныне делом соответствующим образом соделала и предложенные Дары совершила и претворила в Господни Тело и Кровь… Ибо как в первом том творении, хотя земля и получила по Божьей заповеди, силу произращать то, что происходит из нее, и эта заповедь, как говорит тот же Учитель, оставшаяся навеки в земле, придала ей силу непрестанно произращать, однако для совершения возрастаемого необходима также и наша забота… таким образом, и здесь, единожды сказанное Спасителем, как и говорит божественный Златоуст, всегда совершает действие, но, подобно же, содействует для совершения (освящения) предлежащих Св. Даров и сила божественного священства, действующая чрез молитву и благословение. Ибо и та вода крещения, которая по виду просто вода, соделывает отпущение всех грехов – чрез невидимое содействие Божественного Духа; итак, не в том смысле, что мы исключительно придаем веру нашей молитве или считаем те слова бессильными, мы молимся о предлежащих Дарах и таким образом совершаем их, но – и тем словам мы сохраняем свойственную им силу и являем значение божественного священства, которое совершает все Таинства чрез призывание действующего чрез него Святого Духа»[324].
И далее: «…что единожды сказанное Им, тем самым, что оно было Им сказано, как слово Творца, всегда действует – это говорит Златоязычный Иоанн. Что же касается того, что эти слова, ныне произносимые священником, тем самым, что произносятся им, могут совершить сие – этого отнюдь не должно учить, поскольку слово Творца не само по себе действует тем, что произносится тем или иным человеком, но в том его значение, что оно раз и навсегда было сказано Богом»[325]. Таким образом, когда святитель Иоанн говорит, что «Слово Владычнее, единожды реченное, соделывает Жертву совершенной», то выражение «единожды реченное» означает не «ныне произносимое», но то, что «единожды реченное Христом» всегда «влагает освящательную силу в предложенные Дары, но не уже и делом освящает их (чрез одно только произношение их); ибо это, чрез молитву священника, соделывает наитие Святаго Духа…»[326]
В свою очередь, учение святителя Марка есть, очевидно, прямое развитие учения святителя Николая Кавасилы, которого в приведенном тексте он цитирует дословно, не называя, впрочем, его имени. В «Изъяснении божественной литургии» у последнего аналогичное место звучит так: «Мы веруем, что само слово Господне совершает таинство, но именно чрез священника, чрез предстательство его и молитву; ибо оно действует не просто через все и не как-нибудь, но требуется многое, без чего оно не окажет своего действия»[327]. Те, кто верит, что Дары освящаются молитвой, вовсе не уничижают слов Спасителя и не полагаются на себя и на сомнительные человеческие молитвы, в чем упрекают нас латиняне. «Если, как говорят они, не видно, что производят молитвы, то равным образом не видно, священник ли то, что называется этим именем, не видно, может ли он освящать миро; и таким образом, не может совершиться таинство причащения, потому что на самом деле тогда нет ни священника, ни алтаря; так как они и сами не скажут, что слово Господне, независимо от лица и без алтаря, имеет силу совершительную. Но алтарь, на котором должно полагать хлеб, освящается миром, а миро священнодействуется через молитвы… Притом совершение тайн молитвою предали Отцы, принявшие от Апостолов и их учеников и все прочее… и святую Евхаристию. Предали после многих других и Василий Великий, и Иоанн Златоуст, великие учители Церкви… Что же до того, будто для освящения Даров достаточно слова Господня о тайнах, произносимого в виде повествования, – о том не видно, чтобы сказал кто-то из Апостолов или из Учителей. Что однажды изреченное Господом, потому именно, что оно изречено Им, оно, как слово творческое, всегда действует, о том, говорит и блаженный Иоанн. Но что, будучи произносимо теперь священником, оно имеет силу, потому что оно произнесено, – этого ниоткуда нельзя видеть, ибо то творческое слово действует не потому, что в известных случаях произносится каким-нибудь человеком, а потому, что однажды произнесено Господом» (курсив мой. – Прот. Павел)[328].
Сравнив теперь это учение отцов с «Акосом» или посланием патриарха Иоакима, легко заметить, что святой Николай и святитель Марк гораздо убедительнее разъясняют значение слов Христовых, чем это сделали Лихуды, и, в свою очередь, это является следствием того, что первые без оговорок признают за словами Христовыми присущую им творческую силу, показывая в то же время, что она (сила) обнаруживает себя именно в таинственной жизни Церкви, выражением чего и служит необходимость священнической молитвы для совершения Даров[329]. Догматика раскрывается через экклесиологию.
Предположим, что текстов свт. Марка мог не знать Медведев, но они определенно были известны, не говоря уже про Лихудов, даже Евфимию, который в 1689 году перевел «мудрейшаго и словеснейшаго Марка Евгеника, митрополита ефесскаго повествование церковнаго последования»[330], разделившее, правда, печальную судьбу других его переводов и так и не дошедшее до печати. Знали «грекофилы» и «Изъяснение Божественной литургии» святителя Николая Кавасилы, но приводили из него только толкование эпиклезы[331], уходя от обсуждения цитированного выше места, где отдавалось должное творческой силе установительных слов Спасителя: очевидно потому, что это затрудняло возможность подвести оппонентов под «хлебопоклонную ересь». В итоге их учение двойственно, и понятно почему: отмена поклонов привела к слишком серьезным последствиям, чтобы можно было вновь признать ее необязательной[332], однако, аргументируя ее и настаивая на ней, они вынужденно подвергали сомнению свой же тезис о равной необходимости для совершения таинства как слов Спасителя, так призывания Святого Духа. В свою очередь Медведев, раз сделав поклоны знаменем разгулявшихся защитников «старины», также не мог даже отчасти поступиться ими. Следственно, в этом споре ни ему, ни Лихудам не оставалось иного выбора, как только погибнуть или победить, притом что это был, пожалуй, первый на Москве спор между учеными православными богословами, прошедшими сходную выучку в школе западного типа. Увы, все его участники оказались заложниками ситуации, которую сами спровоцировали. И может быть, поэтому в великих московских спорах XVII века были победившие и проигравшие, были твердые страдальцы за свои убеждения, но почти не было святых.
Эти споры были последним крупным событием в церковной жизни XVII века. Патриарх Иоаким умер в том же 1690 году, и на престол взошел Адриан – последний досинодальный патриарх. Вторым кандидатом на патриаршество был тогда митрополит Псковский Маркел, как говорят, сторонник прозападной партии, почему избрание Адриана многие восприняли с облегчением. Действительно, он твердо проводил линию Никона и Иоакима: также не любил латинского духа, также поддерживал греков, также был уверен в том, что священство выше царства. Однако историки отмечают грустную параллель между его избранием и избранием патриарха Никона: как и Никон, Адриан так же долго отказывался от престола, но, судя по всему, смущенный совсем другими думами, предчувствуя, что рано или поздно ему предстоит вступить в неравную борьбу с духом времени[333]. Так и случилось: известное Адрианово послание о брадобритии – прямое тому свидетельство. Последние пять лет жизни патриарх был разбит параличом, и все школьные начинания XVII столетия пришли при нем в упадок.
После его смерти Местоблюстителем Патриаршего Престола 20 лет числился митрополит Стефан Яворский, а затем был учрежден Синод. Но между новым и старым временем явился все же святой, одиноко стоящий на стыке столетий, подобно кресту на перепутье дорог: святитель Димитрий, митрополит Ростовский.
Глава 5
«Свят, Димитрий, свят!»
А без любве божественный, само токмо желание небеснаго царствия, есть яко ветвь без корене, не плодоносящая, но увядающая.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи"
Книги похожие на "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Хондзинский - Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи"
Отзывы читателей о книге "Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи", комментарии и мнения людей о произведении.