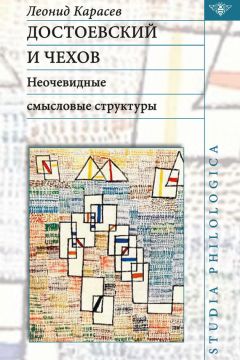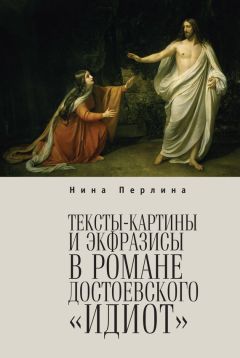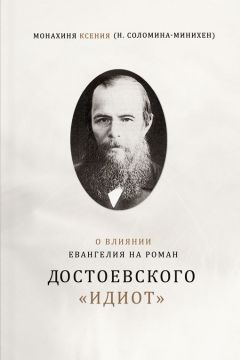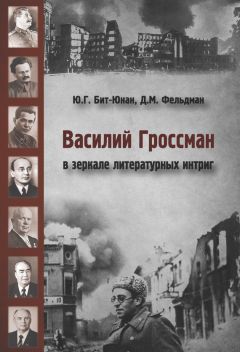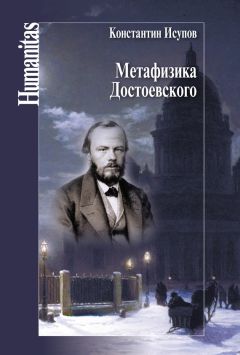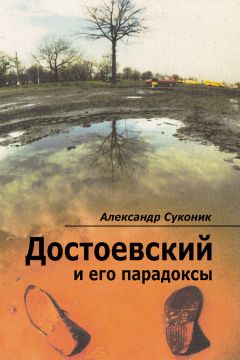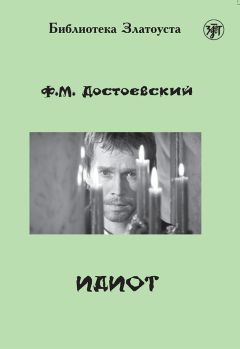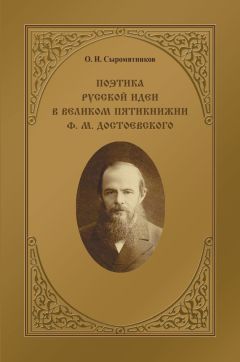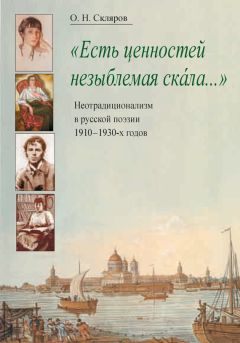Наталия Тяпугина - Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации"
Описание и краткое содержание "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации" читать бесплатно онлайн.
Книга Н. Ю. Тяпугиной представляет собой нетривиальную попытку расширить методологическую базу традиционных историко-литературных исследований. Она посвящена сложной и неизменно актуальной проблеме интерпретации произведений Ф. М. Достоевского. Автору удалось существенно дополнить, а порой и заново переосмыслить содержание ряда произведений писателя. Н. Ю. Тяпугина мастерски анализирует как художественные тексты раннего периода («Господин Прохарчин», «Хозяйка»), так и произведения зрелого писателя. Особый акцент сделан на поэтике романа «Идиот».
Адресована студентам и аспирантам-филологам, преподавателям-словесникам, всем, кто интересуется русской литературой и творчеством Ф. М. Достоевского.
В древнейшей из книг – в Книге притчей Соломоновых – так объясняется назначение притчи: «Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума; Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; Простым дать смышленость, юноше знания и рассудительность; Послушает мудрый и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы; Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их» (гл. 1).
Вот и князю Мышкину надо не просто напомнить Рогожину, что Бог есть, в чем тот стал сомневаться, но и убедить его в этом. Доказательства будут продуктивны в том случае, когда они не противоречат жизненному опыту вопрошающего. Вот почему выбор притчи здесь не случаен. Создается особая атмосфера доверительности, союзничества; притча – это беседа посвященных, которая уважительно сближает ученика и учителя. Эту атмосферу нельзя осквернить, ей хочется соответствовать. Вот почему психологически мотивированным становится жертвенный порыв Рогожина: он не только хочет побрататься с князем крестами, как бы продолжая, подхватывая его притчу о солдатском кресте, – но не хочет уступить князю и в своем человеческом качестве, показывая, что тоже способен на великие жертвы: «Твоя! уступаю!.. Помни Рогожина!» (224) И это о самом дорогом – о Настасье Филипповне!
Но это, так сказать, атмосфера жанра. А что же в самом содержании притч так подействовало на Рогожина?
Из четырех рассказанных князем историй очевидно, что «сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления… не подходит…» Что именно верующий, пусть и «слабый сердцем», может быть прощен, что именно его «подождет еще осуждать» князь.
А Рогожину это и надо было услышать от князя. Запутавшись в жизни, любви и вере, ослабев сердцем, он полон самых ужасных ожиданий и предчувствий. И слова поддержки и ободрения, высказанные в предельно объективированном виде – в универсальной форме человеческого опыта, облаченного в жанр притчи, – не просто утешили Рогожина, но, как уже было видно, пробудили в нем источник доброй воли. Пусть этот порыв был недолговечным, пусть на смену ему скоро пришли новые, еще более жестокие сомнения, – но он был! И только «Бог знает, что в этих… слабых сердцах заключается» (222).
Содержание и пафос авторских притч Достоевского не просто перекликаются с евангельскими, они укореняются в евангельских притчах о Заблудшей овце, Потерянной драхме, Блудном сыне. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти не заблудившихся» (Еванг. от Матфея, гл. 18).
Но есть одна притча, которая в романе Достоевского занимает совершенно особое место – это притча о Сеятеле. Напомним ее: «… вот вышел сеятель сеять; И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; Иное упало на места каменистые, где не было земли, и скоро взошло. потому что земля была неглубока; Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло; Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; Иное упало на добрую землю и принесло плод; одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать» (Еванг. от Матфея, гл. 13). Думается, что нет нужды расшифровывать эту притчу – имеющий уши да слышит. Попытаемся лишь объяснить свои слова об особом смысле этой притчи в «Идиоте».
Как нетрудно заметить, перед нами трехчленное повествование, которое схематически выглядит так: 1) сказанное слово – брошенное семя; 2) невидимое взаимодействие «почвы» и слова; 3) видимый результат – плоды или потери. Именно в соответствии с этим принципом обозначен характер влияния князя на людей: встреча, общение – волнение «невидимого бытия» или нравственный штиль; ощутимый «прирост» личности или констатация ее бесплодности. Таким образом, при общении с князем оживляется, актуализируется то, что в жизненной текучке скрыто от глаз, составляет заповедную сердцевину личности. При этом Достоевский вовсе не стремится обнародовать тайные механизмы личности, он не прописывает самого сокровенного: как именно усваивается слово князя «почвой» человеческой натуры. То, что в евангельской притче помещено в пространство между пунктирами «Действие» – «результат», остается таковым и в романе Достоевского. Писатель уважает тайну личности – любой! – и намеренно воздерживается от вторжения на заповедную территорию, не забывая, впрочем, наносить все новые и новые штрихи на шкале личностных изменений своих героев.
Посмотрим, как при знакомстве с князем реагируют на него Парфен Рогожин и чиновник Лебедев, который пройдет через весь роман «недоконченным» человеком. Поначалу и Рогожин и Лебедев единодушны: они «насмехаются, хохочут» над своим странным спутником. Мышкин, тем не менее, отвечает на их вопросы «с чрезвычайной готовностью». И даже тогда, когда Рогожин «присвистнул и захохотал» и «язвительно заметил», – Мышкин подхватывает разговор «тихим и примиряющим голосом». И вот уже «захихикал» один Лебедев, а Рогожин – лишь «усмехнулся». Уже не князя, а «угреватого чиновника» начинает «быстро, с невежливым нетерпением» перебивать Рогожин. А с князем он теперь склонен солидаризироваться: так же, как и Мышкин, «ничему не обучался»; недавно так же, с одним узелком, «убег» от родителя. При этом уже «злобно» смотрит Рогожин на примитивного Лебедева, именно на него кричит «в нетерпении». А князя он теперь «особенно охотно взял… в собеседники». Он и сам не знает почему: «Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил». Рогожин пытается себя понять: «Может, оттого, что в этакую минуту встретил…» Впрочем, тут же сам себя и опровергает: «…да вот ведь и этого встретил (Лебедева – Н.Т.), а ведь не полюбил же его» (15).
Заметим, что сам Лебедев не полюбил никого, он продолжает по-прежнему суетится и мельтешить, боясь упустить даже абсолютно мифическую для него выгоду.
Как видим, в романе приводится лишь внешний контур, и абсолютно неясно, почему на Лебедева появление князя не оказало никакого влияния, а сумрачный и страстный Рогожин отреагировал на личность князя столь ощутимым образом. В этом заключается тайна личности Рогожина, которую автор отнюдь не стремится нам сразу и до конца растолковать. И структура романа вполне это отражает: повествование имеет характер дискретного потока, в котором герои на каждом следующем этапе обнаруживают какое-то неожиданно новое качество, способность к более глубокому погружению в духовные недра, к чему их побуждают слово и пример князя.
Разумеется, процесс этот не свободен от противоречий и отступлений, поскольку восстановление своей истинной сущности мучительно и непривычно в мире, где всякий упрятан в раковину социальных и психологических условностей. Исход из себя, шаблонного, к себе, уникальному, – поступок рискованный, требующий от человека мужественной готовности защищать свое нравственное обретение. Вот еще почему драматично появление князя среди людей. В этом смысле он, безусловно, сильно осложняет им жизнь.
Но Сеятель пришел и разбросал свои зерна там, где настал черед сеять. И приняли семена почвы добрые и непригодные, благодатные и бросовые.
Рогожин воспринял князя, и потому осилил путь от буйного «черномазого» до «задумчивого» страдальца, побратавшегося с Мышкиным не только крестами, но и судьбами. Приняв Князя Христа в свою душу, Рогожин самим масштабом происшедшей с ним трагедии доказал, что даже самая неблагоприятная жизненная почва может дать плоды, если человек приемлет Слово Божие. Что истинный его смысл пройдет через толщу сомнений, если душа не утратила драгоценной способности слышать.
Судьба Настасьи Филипповны свидетельствует о том же. Узнав князя каким-то внутренним зрением, расценив факт его появления как подтверждение реальности самых потаенных своих мечтаний и признав его абсолютную власть над своей судьбой, Настасья Филипповна начинает тяжкий путь восхождения к себе самой. Слово князя, попав на изуродованную людьми и обстоятельствами почву, начинает мучительное прорастание сквозь плевелы гордости и унижений, сквозь камни сомнений и жестокости. При этом сам процесс «восстановления» скрыт от наших глаз. Штрихи расставлены так, что каждый раз как данность возникает новое качество ее души: нарочито-вульгарная, играющая роль погубительницы – в начале романа; беззащитная и дерзкая, гордая и жалкая одновременно – в сцене именин; в эпизоде окончательного выбора она предстает готовой поставить на кон всю жизнь свою, чтобы до конца проверить подлинность своей веры («Я в тебя одного поверила,» – признается она князю). Она чуть не погибла во время этой «проверки» – «убитое, искаженное лицо Настасьи Филипповны глядело на него (на князя Н.Т.) в упор, и посиневшие губы шевелились…» Но заново родилась она уже другим человеком. Это взволнованно обнаружил князь: «Ведь это… дитя; теперь она дитя, совсем дитя!» (583) И это трижды повторенное «дитя» окончательно закрепляет Настасью Филипповну в новом качестве и, одновременно, пророчествует близкую развязку ее судьбы, напоминая евангельское: «И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Еванг. от Матфея, гл. 18).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации"
Книги похожие на "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталия Тяпугина - Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации"
Отзывы читателей о книге "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации", комментарии и мнения людей о произведении.