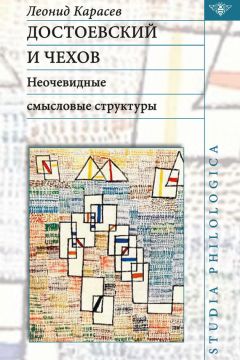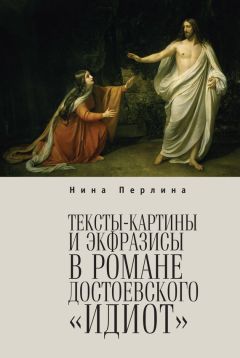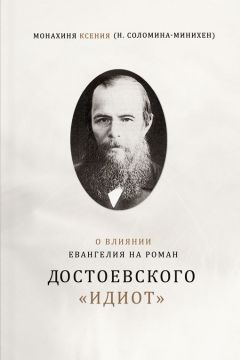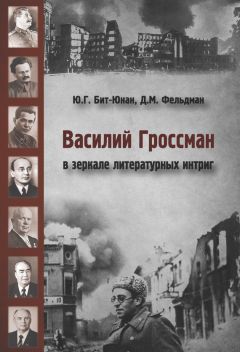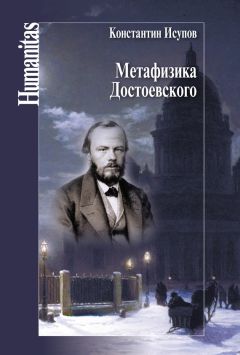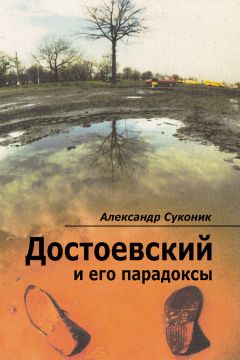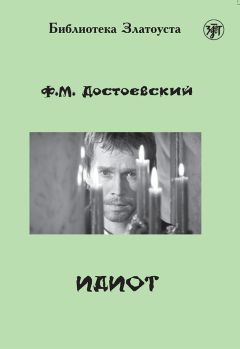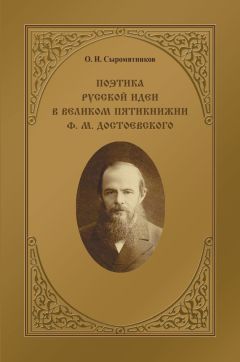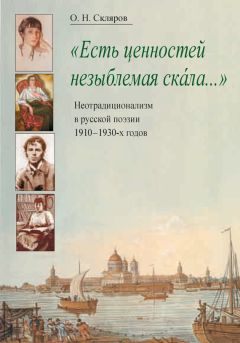Наталия Тяпугина - Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации"
Описание и краткое содержание "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации" читать бесплатно онлайн.
Книга Н. Ю. Тяпугиной представляет собой нетривиальную попытку расширить методологическую базу традиционных историко-литературных исследований. Она посвящена сложной и неизменно актуальной проблеме интерпретации произведений Ф. М. Достоевского. Автору удалось существенно дополнить, а порой и заново переосмыслить содержание ряда произведений писателя. Н. Ю. Тяпугина мастерски анализирует как художественные тексты раннего периода («Господин Прохарчин», «Хозяйка»), так и произведения зрелого писателя. Особый акцент сделан на поэтике романа «Идиот».
Адресована студентам и аспирантам-филологам, преподавателям-словесникам, всем, кто интересуется русской литературой и творчеством Ф. М. Достоевского.
В день свадьбы, в свой последний день на земле, прекрасная женщина-дитя была «бледна как мертвец»; поклонившись набожно образу, она смело шагнула к улюлюкающей, жаждущей скандала толпе. «большие черные глаза ее сверкали на толпу как раскаленные угли; этого-то взгляда толпа и не вынесла; негодование обратилось в восторженные крики» (594). Ее красота обрела облагораживающую силу. Слово князя проросло в ее душе, она сумела одолеть искривляющие обстоятельства, и потому обрела не только лик, но и свойства Богородицы.[96] Воистину, чтобы пшеничное зерно принесло много плода, оно должно умереть. Эта трагическая ипостась притчи обращена уже не к Сеятелю, а к брошенному им зерну. «Истинно, истинно говорю вам…»
Проповедь – еще один евангельский жанр в своем духотворческом качестве примыкающий к притче. Этот жанр тоже достаточно выпукло различим на стилевой матрице «Идиота». Известно, что проповедь отличается особым – назидательным, учительским тоном и страстной интонацией. Проповедник ищет среди слушателей единомышленников, стремясь сделать таковыми как можно большее число людей. С помощью проповеди он стремится обратить в свою веру людей заблуждающихся, подчас себя просто таковыми не осознающих. Проповедь – это исход личности за пределы сокровенного. Это излияние на собратьев (а все слушающие представляются проповеднику именно друзьями, братьями) самых заповедных мыслей и переживаний. Проповедник, конечно, рискует показаться смешным или быть непонятым, но он как бы не замечает этого риска, потому что движет им не гордость или желание власти, а любовь. Именно любовь материализуется в живом, сердечном слове проповедника. Она же и создает атмосферу исключительной сердечности и открытой заинтересованности. В Евангелии от Иоанна о проповеди сказано так: «Вы уже очищены чрез Слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне» (гл. 15).
Для проповедника нет человека окончательно погибшего. Он – рыцарь идеи («рыцарь бедный»). Он бросается с открытым забралом и щедро тратит себя для любого, даже самого незначительного, случайно встреченного человека, потому что его главной целью является «напомнить человеку высокое призвание его».
Как помним, камердинер в доме генерала Епанчина поначалу оценил князя Мышкина как «дурачка» и не слишком старался скрыть от него эту оценку. Однако и перед ним – перед ним даже в первую очередь! – князь раскрыл смысл важнейшей Христовой заповеди «Не убий!», поделившись своими мыслями о смертной казни. Немало удивив лакея, этот странный посетитель с тихим голосом повел беседу, совсем не напоминающую разговоры, доселе слышимые тем на своем посту в передней. При этом Мышкин «одушевился говоря, легкая краска проступила в его бледное лицо», и это волнение невольно передалось и его единственному слушателю. И вот уже «камердинер с сочувствующим интересом следил за ним, так что оторваться, кажется, не хотелось; может быть, тоже был человек с воображением и попыткой на мысль» (23). (Выделено нами – Н.Т.)
Это качество и было искомым для Мышкина: именно живая реакция на слово более всего и одушевляла князя. Его страстные риторические вопросы («Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое надругательство, безобразие, ненужное, напрасное?»; логические умозаключения, облаченные в форму восклицания («Нет, с человеком поступать нельзя так!»); ссылка на авторитет Христа («Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил»). Сам ритм взволнованной речи, неровный, обрывистый, с обилием экспрессивных синонимов и повторов не мог оставить равнодушным: «Подумайте: если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь» (24).
Идет концентрация переживания, князь заставляет своего случайного собеседника вжиться в ситуацию, апеллирует к личному опыту слушающего: «А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что н а в е р н о» (24).
Через экспрессивные повторы, через все убыстряющийся ритм речи князь буквально внушает слушателю мысль, которой вершит свою страстную проповедь: «Нет, с человеком так нельзя поступать!» И вот уже вместо «утроенной подозрительности», выказанной камердинером при встрече, этот человек (как оказалось, а не безликая ливрея!), «хотя и не мог бы так выразить все это, как князь, но, конечно, хотя не все, но главное понял, что видно было даже по умилившемуся лицу его» (24–25).
Именно умиление, просветление, восторг и являются ожидаемой реакцией на проповедь. Речь князя не была гласом вопиющего в пустыне. Твердые принципы мягкосердечного человека, как и много лет назад, обнаружили свою универсальность: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас…» (Еванг. от Матфея, гл. 5)
Как право имеющий князь говорит не только с камердинером, – в его мире, похоже, вообще отсутствуют сословные перегородки, это его обычная манера. Преодолевая смущение от знакомства с семейством генерала Епанчина, князь, тем не менее, неожиданно признается: «… я действительно, пожалуй, философ, и кто знает, может, и в самом деле мысль имею поучать… Это может быть право; может быть» (62).
На вопрос Аглаи: «То есть вы думаете, что умнее всех проживете?» – князь отвечает неожиданно твердо: «Да, мне и это иногда думалось». – «И думается?» – «И… думается».
Несмотря на застенчивость князь «тихо и серьезно» признается Епанчину в том, что «знает лица людей». Это очень скоро и подтвердится. Как, впрочем, подтвердится по ходу романа все, что поначалу было несколько загадочно декларировано Мышкиным. Ну, например, это: «И не подумайте, что я с простоты так откровенно все это говорил сейчас вам про ваши лица, о нет, совсем нет! Может быть, и я свою мысль имел» (79).
Конечно, не случайно с гордыми, знающими себе цену Епанчиными он говорит о цене жизни и сострадания. Несомненно, «свою мысль имел» князь, когда поведал генеральше и ее дочерям историю Мари, так напоминающую евангельскую притчу о грешнице Марии Магдалине, спасшейся верой и любовью к Христу. При этом обнаружилось, что князь – отличный рассказчик, умеющий любой, единичный вроде бы случай изложить как факт, полный скрытого смысла. И у своих слушателей он стремится развить этот дар – дар осмысленного и благодарного приятия жизни: будь то крик осла в чужом городе, улыбка ребенка или впервые прочитанный Пушкин.
Как истинный проповедник, он не впадает в ложный пафос, не принимает картинных поз, никому не навязывает своей воли. Внешне вообще мало напоминает оратора – он скован и сконфужен. И только тогда, когда речь заходит о вещах для него сугубо важных, он как будто забывает о собственной персоне и говорит, «увлекаясь воспоминанием». Главное, чем он теперь озабочен – это по возможности точно передать потрясшее его впечатление и четко мотивировать его, «привязав» к духовному опыту слушающих. Князь увлекает именно своей искренностью, его проповеди лишены доктринерства и назидательности. Впрочем, он может быть и резким, непримиримым, когда дело касается самых важных для него вещей, когда в собеседнике он обнаруживает покушение на святые для него понятия. Тут он может и перебить своих оппонентов, заставить их слушать себя и считаться со своим мнением.
Так, на вечере у Епанчиных, когда речь зашла о католичестве, в голосе князя зазвучал стальной императив: «Нехристианская вера, во-первых! – в чрезвычайном волнении и не в меру резко заговорил опять князь, – это во-первых, а во-вторых, католичество римское даже хуже самого атеизма, таково мое мнение! (543) Далее он обстоятельно мотивирует свое категорическое суждение: «Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас! Это мое личное и давнишнее убеждение, и оно меня самого измучило…» (543)
Соединение страстно-личного убеждения и серьезной логики в светском разговоре о модном католицизме вызвало поначалу чисто этикетную реакцию. Князь «был бледен и задыхался. Все переглядывались; но наконец старичок (Иван Петрович, затеявший этот разговор – Н.Т.) откровенно рассмеялся. Князь N вынул лорнет и, не отрываясь, рассматривал князя. Немчик-поэт выполз из угла и подвинулся поближе к столу, улыбаясь зловещею улыбкой» (544).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации"
Книги похожие на "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталия Тяпугина - Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации"
Отзывы читателей о книге "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации", комментарии и мнения людей о произведении.