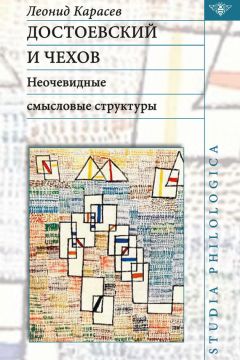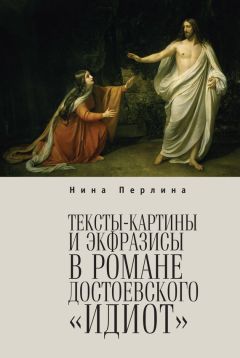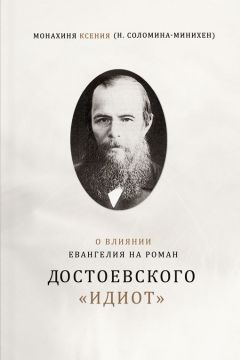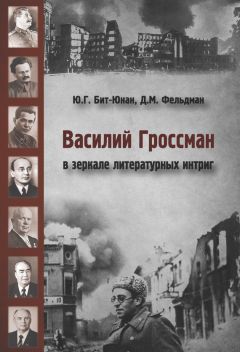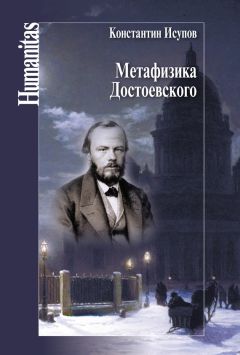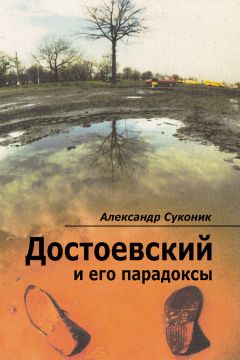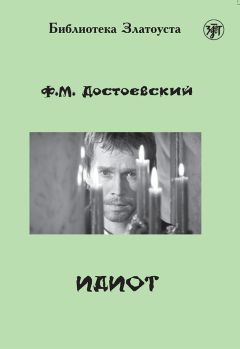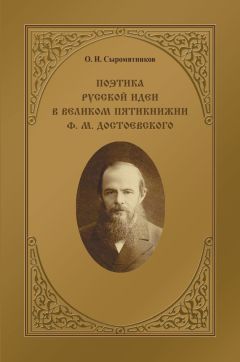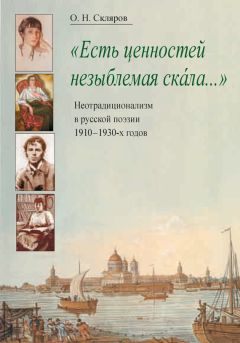Наталия Тяпугина - Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации"
Описание и краткое содержание "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации" читать бесплатно онлайн.
Книга Н. Ю. Тяпугиной представляет собой нетривиальную попытку расширить методологическую базу традиционных историко-литературных исследований. Она посвящена сложной и неизменно актуальной проблеме интерпретации произведений Ф. М. Достоевского. Автору удалось существенно дополнить, а порой и заново переосмыслить содержание ряда произведений писателя. Н. Ю. Тяпугина мастерски анализирует как художественные тексты раннего периода («Господин Прохарчин», «Хозяйка»), так и произведения зрелого писателя. Особый акцент сделан на поэтике романа «Идиот».
Адресована студентам и аспирантам-филологам, преподавателям-словесникам, всем, кто интересуется русской литературой и творчеством Ф. М. Достоевского.
Так по законам символической триады соединились высокий рыцарский дух князя (рыцарь и есть символ Логоса, духа), душевная неуспокоенность Настасьи Филипповны и буйные инстинкты Рогожина.
То, что в комнате, погруженной во тьму, происходит нечто большее, чем прощание, ощутимо. На это указывают многочисленные аллюзии. Это, в самом деле, «легкие прикосновения» к вечности. А иначе откуда такая торжественность: Рогожин «подошел к князю, нежно и восторженно взял его за руку, приподнял и подвел к постели…» Очевидно, что разворачивается какой-то важный ритуал. И здесь продумано все: и отсутствие цветов (символ мимолетной красоты); и сама тьма, которая в реальном плане, как и цветы, должна до времени сохранить тайну. Тьма подчеркивает мертвую тишину комнаты, ослабляет нечеловеческий блеск неподвижных рогожинских глаз, приглушает стук сердца князя. Тьма скрывает и саму жертву…
Тьма в финале – это точная психологическая характеристика, выражающая своеобразный «субстрат» страстей. Вот почему лаконичный диалог Рогожина и князя оставляет такое жуткое впечатление:
«– Входи! – кивал он за портьеру, приглашая проходить вперед. Князь прошел.
– Тут темно, – сказал он.
– Видать! – пробормотал Рогожин.
– Я чуть вижу… кровать.
– Подойди ближе-то, – тихо предложил Рогожин» (607).
Эпизод у постели Настасьи Филипповны завершается словами: «Князь глядел и чувствовал, что, чем больше он глядит, тем еще мертвее и тише становится в комнате». И вот уже так тихо, что можно вздрогнуть от жужжания мухи. Из первобытного хаоса души, из предвечной тьмы рождается постижение смысла происходящего, во всей его полноте и мощи. Мы прикасаемся к источнику, где жизнь встречается со смертью.
Смерть Настасьи Филипповны символизирует конец эпохи, окончание определенного этапа жизни, потому что в ней проявилось стремление к саморазрушению перед лицом невыносимого напряжения. В таком случае смерть имеет ритуальное, жертвенное значение. То, что в романе гибель героини несет в себе эти черты, несомненно. Не случайно автор дал ей фамилию – Барашкова. Агнец – вечный жертвенный символ, означающий периодическое обновление мира: пролилась кровь – самая драгоценная жертва. А смысл любого жертвоприношения, как известно, состоит в том, что жертва умиротворяет грозные силы и устраняет угрозу самых суровых наказаний.
«Считается, что жертвовать – это значит жертвовать собой, и духовная энергия, приобретаемая посредством этого, пропорциональна значимости того, что потеряно».[93] А знак совместной жертвы, как в романе Достоевского, эти устремления духовного порядка еще более усиливают.
С жертвой связана и символика ножа. Это тот самый нож, «довольно простой формы ножик, с оленьим черенком, нескладной, с лезвием вершка в три с половиной, соответственной ширины», который, как мы помним, так насторожил князя в эпизоде братания с Рогожиным. Видимо, он же блеснул и в занесенной над князем руке «названого брата». Именно им убита Настасья Филипповна. Причем, выбранный автором размер ножа – небольшой «ножик» – тоже оказался важным смысловым знаком. И означает он не духовную мощь его владельца – тогда острие ножа было бы длинное, – а примат инстинктивных сил в его хозяине, что, как видим, абсолютно соответствует логике характера Рогожина.
Без понимания такого – особого, скрытого смысла случайных вроде бы предметов, невозможно понять их связь и значение. Нельзя осознать, почему, например, князю так важно узнать у Рогожина о существовании карт, в которые с ним играла Настасья Филипповна:
«– Ах, да! – зашептал вдруг князь прежним взволнованным и торопливым шепотом, как бы поймав опять мысль и ужасно боясь опять потерять ее, даже привскочив на постели, – да… я ведь хотел… эти карты! карты!.. Ты, говорят, с нею в карты играл?
– Играл, – сказал Рогожин после некоторого молчания.
– Где же… карты?
– Здесь карты… – выговорилРогожин, помолчав еще больше, – вот…
Он вынул игранную, завернутую в бумажку колоду из кармана и протянул к князю. Тот взял, но как бы с недоумением. Новое грустное и безотрадное чувство сдавило ему сердце; он вдруг понял, что в эту минуту, и давно уже, все говорит не о том, что бы надо делать, и что вот эти карты, которые он держит в руках и которым он так обрадовался, ничему, ничему не помогут теперь»(611). (Выделено нами – Н. Т.)
Между тем известно, что полная колода игральных карт символична в самом истоке. Комбинация карт представляет собой слияние идей внешнего и внутреннего мира и воплощает все архетипические потенции человека. Видимо, в картах Мышкин подспудно надеялся найти ответы на свои неразрешенные вопросы. Вот, очевидно, почему он так обрадовался им вначале. Но карты – это и знак судьбы, от которой не уйти. Именно они и довели до сознания князя мысль о том, что самое страшное уже произошло. И вот тогда «он встал и всплеснул руками… Князь сел на стул и стал со страхом смотреть» на Рогожина. Он теперь понял все.
Кризис, переживаемый Рогожиным, в полной мере разделяет с ним Мышкин. Это происходит потому, что любой кризис несет хоть и скрытую, но обоснованную идею о том, что в каждой драме есть прямое и косвенное чувство вины. Именно в этом переживании содержатся ростки возрождения, преодоления кризиса.
Это чувство совместной вины, не названное своим именем, тем не менее разлито в финальной сцене романа и психологически мотивирует поведение обоих героев. Князь, преодолевая свой страх, чувствует себя обязанным выслушать и успокоить Рогожина. Рогожин уже в самом бдении около жертвы обнаруживает ту «задумчивость», которая засвидетельствовала факт жизненного урока, сполна им воспринятого. И это тоже знак того, что жертва не была напрасной.
Поэтика идеала: жанрово-стилистические особенности романа «Идиот»
Изображение святости в светском искусстве неминуемо ставит вопрос о возможности профанации церковного стиля и религиозного чувства. Можно ли избежать этого? Можно ли с помощью творческого изображения воплотить (в слове, звуке, материале) идеи, содержащие вечное и современное, земное и надмирное одновременно?
Легче всего саму эту проблему аттестовать богопротивной, а художественные опыты назвать «посторонними примесями к религиозным сюжетам».[94] Между тем уже в середине XIX века в России начал формироваться новый способ соединения православной выразительности и художественной убедительности. В первую очередь, это касалось живописи. А. Иванов, В. Васнецов, М. Нестеров, В. Поленов открывали в вечных библейских сюжетах источник подлинной красоты, кладезь животворящих идей, способных напитать иссушенную безверием душу.
Понятно, что задача эта титаническая, требует она от художника исключительных усилий и личностного совершенства. «Так тяжело…» – признался незадолго до смерти А. А. Иванов, привезя в Москву плод напряженнейшей двадцатилетней работы – свою картину «Явление Христа народу».
Русские художники и писатели упорно продолжали поиски путей, соединяющих искусство с жизнью и с Богом. При этом религиозные темы оценивались ими не просто как выигрышные, но несомненно способные пробудить живую мысль и веру, что в условиях идейного брожения и раздробленности приобретало неоценимое значение. Гоголь и Иванов, Достоевский и Нестеров, Соловьев и Васнецов полагали и своим творчеством доказали, что и в пределах светской культуры возможно воплощение истинно религиозных идей, создание христианского настроя.
Особый интерес начинает представлять открытие, что источник веры кроется «во всяком дому, в каждом человеке» (В. Розанов), что путь к Богу у каждого свой и опосредован он многими обстоятельствами, как сугубо индивидуальными, так и конкретно-историческими. Понятно, что подчас волевое художническое начало обречено было вступать в противоречие с церковным каноном в изображении Того, к Кому молитва. Порой художник, возлюбивший православие и дерзнувший его воплотить в своем творчестве, мог нарушить какие-то религиозные каноны.
Главный вопрос здесь такой: «В какой степени изобразим дух? И как наполнить идею такой плотью, чтобы она воспринималась и сознавалась людьми?»
Известно, что в действительности человек является и родовым и индивидуальным существом одновременно. При этом именно его индивидуальность чаще всего синонимична деформации, диссонансу, чрезмерности. Это контрастирующие со светом тени, с помощью которых искусство и передает своеобразие индивидуальных форм. Но что делать, если личность идеальна, как, например, Христос, если гармония его личности не содержит несообразностей и не образует контрастов со светоносным источником? Как изобразить свет в свете?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации"
Книги похожие на "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталия Тяпугина - Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации"
Отзывы читателей о книге "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации", комментарии и мнения людей о произведении.