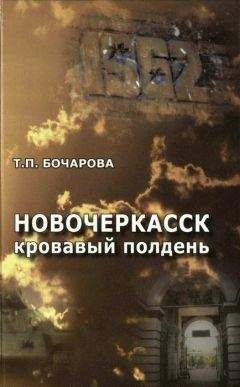Павлюченков Алексеевич - «Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "«Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг."
Описание и краткое содержание "«Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг." читать бесплатно онлайн.
Философия нигилизма по отношению к советской эпохе в свою очередь не прошла испытание временем, выступив лишь в качестве идеологического сопровождения кризисных процессов в обществе. Актуальность опыта КПСС не исчезла с поражением коммунистической доктрины. Обращение к истории периода советского коммунизма говорит о том, что для него были присущи те же традиционные противоречия, которые изначально определили феномен российской цивилизации и ее устойчивое своеобразие. Книга содержит конструктивную критику политической истории большевистского периода. Проводится анализ исторических оснований системы советского коммунизма и ее связи с современными проблемами государственного строительства.
Для всех интересующихся историей России начала XX века.
Зиновьев в свою очередь третий год подряд прилагал усилия, чтобы в глазах партийных масс утвердиться в качестве преемника Ленина. Он везде демонстрировал свое приоритетное положение, брался за космические темы, делал огромные доклады, захватывая трибуны партийных форумов на столько времени, сколько ему заблагорассудится, не считаясь с регламентом, притом заполняя выступления всякой мелочью личного характера. Но ему никак не удавалось внушить аудитории должный пиетет, его излишняя говорливость только раздражала. На XII съезде партии Осинский ядовито заметил: когда ленинским языком пытается говорить т. Зиновьев, я не верю своим глазам (м.б. ушам?). «Если на клетке написано "лев", а льва там нет, я не верю надписи»[717].
Зиновьев очень хотел быть «львом». Для него вопрос о судьбе Троцкого превратился в дело принципа, поэтому Сталин легко вывел его из себя и заставил совершать ошибки. Зиновьев принялся активно перенимать методы и лозунги разоблаченного им Троцкого, в частности призыв делать ставку на молодежь. Зиновьевцы предприняли попытку овладения комсомолом. Когда окончательно выяснилась позиция большинства цекистов по отношению к ленинградскому руководству, Зиновьевым было сделано обращение через голову ЦК партии к комсомолу с призывом провести ленинградскую точку зрения в ЦК РКСМ. В Ленинграде состоялась губернская конференция комсомола, на которую без всякого уведомления и разрешения Москвы были приглашены представители 15 крупнейших организаций со всего Союза ССР. Этот маневр в духе Троцкого вызвал резкое осуждение в ЦК партии, там это было расценено как шаг к созданию второго центра молодежного движения.
В Кремле давно подозревали северную столицу, взявшую имя Ленина, в сепаратистских настроениях. Ленинградские учреждения постоянно пытались претендовать на былой всероссийский масштаб и имели к этому серьезные основания. Там по-прежнему были самые передовые предприятия, многочисленный и активный рабочий класс, крупнейшие издательства и лучшие типографии. Ленинград оставался центром Северо-западной области, в состав которой входили пять губерний: Ленинградская, Новгородская, Псковская, Череповецкая, Мурманская, и Карельская автономная советская республика.
В конце 1924 года Орграспред ЦК стал критически отзываться о деятельности Севзапбюро ЦК по руководству губернскими организациями. Отзывы по большей части выражались в словах: «недостаточно», «хромает», «не уделяется» и т. п.[718] 22 декабря секретарь ленгубкома П.А.Залуцкий отчитываясь перед Оргбюро о работе Севзапбюро ЦК, помимо прочего сообщил, что в Ленинграде обсуждается вопрос о том, что необходимо «обособить» аппарат Севзапбюро с тем, чтобы постепенно реорганизовать его в аппарат областного комитета на выборных началах[719]. То есть преобразовать бюро, назначаемое из Цека, в более независимый от Москвы орган. Основной лозунг, который дает бюро в ячейки, — осуществление внутрипартийной демократии и борьба за наиболее гибкие и всесторонние формы ее воплощения.
Присутствующие на заседании насторожились, поскольку по опыту прошедшей дискуссии всем было памятно, что лозунги расширения «демократии» в партии исправно служили хорошим прикрытием для утверждения узковедомственного или группового бюрократического интереса, с которым якобы предполагалось бороться. Зиновьев подхватил эстафету «партийной демократии», выпавшую из рук Троцкого. Поэтому Оргбюро холодно приняло к сведению сообщение Залуцкого, предложив Севзапбюро сформулировать и внести свои конкретные соображения в Цека. Но, чтобы обеспечить нужное направление в соображениях ленинградцев, Оргбюро тут же приняло решение о пересмотре состава Севзапбюро, заменив троих человек более надежными товарищами из Москвы[720]. Вопрос на время удалось заморозить.
Цека партии начал теснить Зиновьева в его владениях, благо поводов было достаточно. Началось с раздражающих мелочей. В период дискуссии с Троцким вузовские организации, а ленинградские в особенности, показали себя неустойчивыми по отношению к соблазнам оппозиции. Поэтому ленинградскому губкому еще перед началом 1924/25 учебного года было предложено в срочном порядке принять меры к усилению вузов коммунистическими кадрами[721].
12 января 1925 года состоялось постановление Оргбюро о партийной работе в вузах (18 января вышел циркуляр ЦК по студенческим организациям). Оргбюро предписало ленинградцам установить у себя общегосударственную структуру студенческих организаций. Постановление гласило, что «ленинградский губком должен…»[722]. С сего времени эта формулировка прочно утвердилась в протоколах коллегий ЦК РКП(б).
Зиновьев претендовал на роль духовного вождя партии. Сталин начал подрывать его позиции именно с этой стороны, наступая на интеллектуальный потенциал колыбели революции. Сталин направил в Ленинград на инспектирование организации свои главные силы — ездил сам Каганович. Ленинградцы, привыкшие к большой степени автономии, были оскорблены и начали утрачивать равновесие, что и требовалось аппарату Цека. По возвращении Каганович заявил, что в пролетарском студенчестве в дискуссии 1923―24 года ярко проявились оппозиционные настроения, а коммунисты в вузах оказались наиболее слабым звеном в цепи, и потребовал укрепления этого звена[723].
В конце февраля — начале марта 1925 года Цека созвал давно запланированное общесоюзное совещание секретарей ячеек вузов, которое признало негодным опыт работы организации студенчества, примененный в ленинградских вузах. Дескать, он усложняет структуру вузовских организаций; ослабляет влияние профессионально организованного студенчества на несоюзное, уменьшает влияние профорганизаций на реформу высшей школы. Совещание сочло необходимым распространение единой формы организации студенчества, установленной циркуляром ЦК, и на ленинградские вузы[724]. По словам ленинградского представителя на совещании, пресловутый опыт заключался в том, что они не вливали в производственные профсоюзы студенчество, «вполне пролетарское», но не связанное непосредственно с производством. Вопрос третьестепенный, однако раздутый в Цека ради провоцирования зиновьевцев.
Если борьба с Троцким после XIII съезда в основном протекала под личиной разного рода исторических реминисценций в плане борьбы «ленинизма» с «троцкизмом», то вытеснение Зиновьева и Каменева с высоких партийных трибун шло под знаменами определения политической стратегии партии на ближайший период.
В 1925 году в день кончины Ленина в столице уже не чувствовалось той печали, которая царила вокруг в январе прошлого года. 1925-й год стал годом максимального развития новой экономической политики и раскрепощения индивидуального хозяйства. Однако зримые успехи в восстановлении национального хозяйства одновременно обнажили ограниченный, не универсальный характер новоэкономических принципов. Фактически, решив проблему восстановления хозяйства, нэп как собственно экономическая политика себя исчерпал, несмотря на то, что его социальные аспекты еще какое-то время продолжали сохранять свое значение. Большевики вышли на старый довоенный рубеж цивилизационных задач развития российского общества, старые проблемы возродились в новой, красной оболочке.
Понять сущность любого исторического периода, а тем более революции и нэпа, исходя из содержания и масштаба тех «нескольких» лет, которые они охватили собой, невозможно. Предпосылки к социальному перевороту, начавшемуся в 1917 году, складывались столетиями и приняли революционный, разрушительный характер лишь потому, что отяжелевшее от пережитков и ослабевшее от либерализма общество не нашло сил модернизировать свои традиционные противоречия и вывести их на новый виток развития с достаточным пространством для маневра.
В принципе, русская революция и ее социальные сложности в контексте глобальных проблем человеческого развития были явлением маргинальным и специфическим. Главная задача, которая обострилась перед Россией в начале XX века как страной, по-прежнему претендующей на самостоятельное мировое значение, это — индустриализация экономики и урбанизация общества, то есть подтягивание к уровню возраставших требований современной цивилизации. Старое общество и царский режим в силу перегруженности социальными противоречиями и многовековыми пережитками не сумели ответить на вызов времени. Мировая война совершенно истощила их, а наступившая революция окончательно похоронила.
После мучительной революционной операции по социальному преобразованию общества и восстановления национального хозяйства перед новыми и энергичными политическими силами прежняя задача вновь встала в полный рост. По причине внутренней специфики советского общества она уже утратила свой прямолинейный национальный прагматизм «Великой России» и предстала облаченной в новые одежды коммунистической партийной доктрины. «Бесклассовое общество», «царство труда» и т. п. — вся эта идеологическая шелуха была терпима в реальной политике лишь постольку, поскольку доктрина научного коммунизма не противоречила, а напротив, всецело было ориентирована на приоритетное развитие передовой индустрии. Партийная программа построения социалистического общества предполагала рост промышленного сектора экономики, изменения социальной структуры общества за счет увеличения численности рабочего класса. Топтание партии в рамках нэпа таило в себе угрозу отхода на позиции интересов частного капитала и мелкокрестьянского хозяйства. Требовался промышленный рывок, для которого были необходимы инвестиции, вложения капитала. В СССР необходимого капитала не было. Объективно существовали два источника получения необходимых средств: внутренний — за счет увеличения налогов, ужесточения эксплуатации населения страны, и внешний — кредиты и помощь более развитых промышленных стран Запада. Попытки приманить западных капиталистов за счет раздачи концессий еще при Ленине неизменно оборачивались ничтожным результатом. Вопреки ожиданиям коммунистического руководства обещаемые проценты на капитал не стали для мировой буржуазии достаточной платой за риск сотрудничества с враждебным и непредсказуемым партнером. Уверенность в том, что мировое хозяйство не может восстановиться без российских ресурсов, оказалась неоправданной. Вместо отпавшей России на выручку западноевропейской буржуазии пришли Северо-американские штаты с их потенциалом и планом Дауэса.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг."
Книги похожие на "«Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павлюченков Алексеевич - «Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг."
Отзывы читателей о книге "«Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.