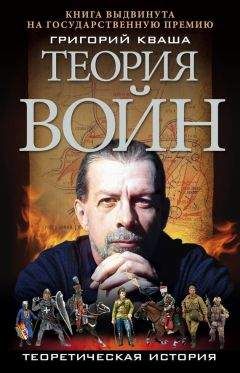Франц Меринг - История войн и военного искусства
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "История войн и военного искусства"
Описание и краткое содержание "История войн и военного искусства" читать бесплатно онлайн.
Насколько различны были методы войны фридриховского и наполеоновского войска, настолько тождественна была тактика русских при Цорндорфе и при Эйлау. Массивные, чрезвычайно глубокие построения, поддержанные многочисленной артиллерией и укреплениями, чудовищные вследствие глубины построения потери, достигавшие в обоих названных нами боях почти половины армии, — но при всем этом в последнем счете оказывалось непреодолимое сопротивление. Сражение при Цорндорфе считается прусской военной историей победой Пруссии. Но, как часто бывает, о победе тут можно говорить только в очень ограниченном смысле. Великолепный образ этого сражения дал один современный дипломат, сравнивший его с сильной оплеухой, от которой человек «переворачивается кругом, но продолжает оставаться на ногах». Русские войска продолжали стоять, а король отступил, чтобы в следующем году от тех же самых русских потерпеть поражение при Куннерсдорфе — самое страшное поражение из испытанных прусской армией до Йены. Наполеон, извлек мудрый урок из опыта под Эйлау и заключил под его впечатлением Тильзитский мир, который в некотором роде, конечно, имел для него роковое значение.
В чем заключалась сила русского войска? Во всем, в чем французская армия в 1806 г. превосходила прусскую армию, она превосходила также и современную русскую армию. Кровавая дисциплина, позорное издевательство над солдатами, плохое вооружение и снабжение, подкупная и бестолковая администрация, бессмысленное увлечение парадами, помешательство на гвардии — все это находило себе место в русской армии в такой же мере, если не в большей, как в прусской, а неспособностью своих офицеров русская армия далеко превзошла даже свой прусский образец. В зимний поход 1806 — 1807 гг. русским главнокомандующим был фельдмаршал Каменский, в бук
вальном смысле слова безумный человек, который в один прекрасный день просто бежал с театра военных действий. Его преемником был генерал Бенигсен, командовавший при Эйлау. Своим местом он был обязан не военным талантам, которые у него полностью и целиком отсутствовали, но тому обстоятельству, что царь Александр боялся его как главного убийцы своего отца, царя Павла. Как мало русский генеральный штаб, если о таковом можно говорить, стоял на уровне современной стратегии и тактики, видно из того, что царь Александр принял генерала Пфуля, одного из главных виновников йенского разгрома, после сражения при Йене к себе на службу и держал его в качестве самого выдающегося специалиста до 1812 г.
Однако в одном существенном пункте русская армия отличалась в 1806 г. от прусской. В то время как эта последняя почти наполовину состояла из чужестранцев солдат, русская армия рекрутировалась из уроженцев страны. Было бы ошибочно делать отсюда вывод, что это было национальное войско, отличавшееся сильным национальным духом. Об армии, сражавшейся при Цорндорфе и Эйлау, говорит один русский военный писатель: «Русский не знает более ужасной участи, не представляет себе ничего более страшного, чем участь солдата... Самая страшная и самая действительная угроза, которой помещик пугал своих крепостных, была угроза сдачи в солдаты». Правительство не делало никакой тайны из того, какой суровой считало оно само участь солдат, наказывая 25-летней солдатской службой за самые тяжелые преступления. Так же, как и в прусском наемном войске, удлинение срока службы рассматривалось как тяжелое дисциплинарное наказание, ничем не отличавшееся от наказания шпицрутенами. Когда в сражении при Аустерлице один пехотный полк на глазах царя побежал, он был наказан тем, что всем солдатам срок службы был удлинен с 25 до 30 лет. За исключением одного Суворова, старая русская армия не выдвинула ни одного «национального героя», каких имела в довольно значительном количестве старая прусская армия в лице Дерфлингера, Шверина, Цитена, Зейдлица, Блюхера. Страшная тяжесть безволия, которую накладывала на русского солдата кровавая дисциплина на целые десятки лет, душила в нем все моральные побуждения, кроме одного.
Немецко-прусский писатель Бернгарди, который в своей чрезвычайно поучительной работе дает картину старого русского войска накануне Крымской войны, этой русской Йены, пишет, между прочим: «Господствующее настроение, в котором живет русский солдат, есть настроение беспрекословной
молчаливой покорности. Он считает свою судьбу неизбежным роком, налагающим на него обязанность безусловного повиновения и заставляющим перед глазами своего начальства ничего не делать и не говорить, кроме того, что ему приказано. Он испытывает такое ощущение, как будто находится во власти какой-то безграничной могущественной силы, которая в последней и высшей инстанции исходит от царя... Однако есть представление, вытекающее из ближайших, понятных этому солдату отношений, которое играет господствующую роль в его психике и чрезвычайно легко, без всякого возбуждения извне проявляется наружу. Это представление о "наших". Так называет солдат в узком смысле слова своих товарищей по полку, в широком смысле — все русское войско. Он считает большим позором и бесчестьем оставлять "наших" в опасности и способен на самые большие жертвы по отношению к своим товарищам».
Энгельс объясняет причины того, что Бернгарди и другие знатоки русского войска признают за неоспоримый факт, следующим образом:
«Русский солдат обладает безусловно большой храбростью. Пока тактическое решение сражения заключалось в натиске больших сомкнутых пехотных масс, он был в своей стихии. Весь его жизненный опыт учил его держаться спаянно со своими товарищами. Полукоммунистическая еще община в деревне, товарищеская работа артели в городе — всюду круговая порука, взаимная связанность товарищей; он видел вокруг себя такой строй общества, который постоянно требует спайки и постоянно подчеркивает беспомощность отдельных индивидуумов, представленных собственной силе и собственной инициативе. Эта психология не оставляет русских и на военной службе. Массы батальонов невозможно рассеять. Чем больше опасность, тем сильнее спаянность отдельных групп». То, что Энгельс писал дальше относительно этого инстинкта, неоценимого еще в эпоху наполеоновских войн, но ставшего в настоящее время прямо вредным для русского войска, не имеет отношения к нашей теме. Я уже указывал на то, что Крымская война была Йеной старорусского войска. В данном случае нас интересует то, что в тот век, когда наполовину азиатское государство решительно вмешалось в европейскую жизнь, внутренней спайкой его войск была не дисциплина постоянного войска, а дисциплина милиции, та, которая вытекает из общности условий труда и жизни входящих в армию солдат. Эта спайка была настолько громадной силой, что чудовищный переворот военного искусства в конце XVIII столетия, который
Французская конница 1857 г.
вдребезги разбил образцовую прусскую армию, для русской армии оказался почти нечувствительным.
Даже тогда, когда в русской армии дисциплина милиции сталкивалась с дисциплиной кнута, побеждала первая. Инстинкт спайки вел к тем сомкнутым массовым, необычайно глубоким построениям, которые причиняли тяжелые потери, вследствие чего с ними так жестоко боролись немецкие генералы русской армии, стремясь приспособить солдат то к фридриховской линейной тактике, то к наполеоновской тактике рассыпного строя, но всегда безуспешно. «Это удивительно и замечательно,— заявляет Бернгарди,— что солдаты испытывают какую-то нравственную необходимость в массовом построении». Он рассказывает о следующем эпизоде из русской военной истории:
«Во время штурма Варшавы в 1831 г. чувства подавленности и стыда, выражавшиеся под конец очень бурно, овладели всей гвардейской пехотой, которая здесь, как и в течение всего похода, во время боя, находилась в резерве. Гвардейские солдаты издали, так сказать на горизонте, наблюдали часть боя, слышали стрельбу и должны были оставаться бездеятельными. Как ни привыкли русские солдаты молчать, среди них там и сям стали раздаваться протестующие голоса: "Наши дерутся и проливают кровь,
а нас здесь держат позади — стыдно". Такими словами высказывалось растущее неудовольствие. Голоса становились настолько громкими, что было почти невозможно поддерживать спокойствие. Офицеры делали вид, что ничего не слышат. Это было единственное, что им оставалось делать».
Этот пример показывает полное бессилие даже развращающего гвардейского принципа перед дисциплиной милиции. Прусские гвардейцы в течение 1813 и 1814 гг. не проявляли ни малейшего недовольства, наблюдая из своего безопасного положения, как ландвер истекает кровью.
Однако достаточно исторических примеров. То, что мы хотели из них извлечь, заключается в следующем. Вопрос — милиция или постоянное войско? — есть вопрос военного устройства, а душой всякого военного устройства является дисциплина. Рассуждая абстрактно, мы можем сказать, что дисциплина милиции, поскольку она вытекает из условий жизни и работы, бесконечно выше, чем дисциплина постоянного войска, приобретаемая им путем выучки и муштровки,— настолько же выше, насколько жизнь выше школы. Ясно, что именно жизнь, а не школа, вырабатывает бойцов. Но предпосылками всякой милиции являются определенные условия жизни и работы, создающиеся историческим развитием. Там, где эти условия отсутствуют, милиция стоит настолько же ниже постоянного войска, насколько безграмотный в военном деле ниже примитивного стрелка.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "История войн и военного искусства"
Книги похожие на "История войн и военного искусства" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Франц Меринг - История войн и военного искусства"
Отзывы читателей о книге "История войн и военного искусства", комментарии и мнения людей о произведении.