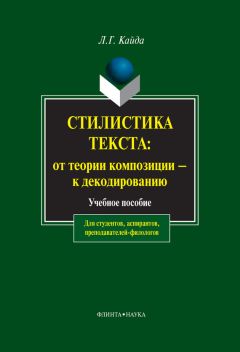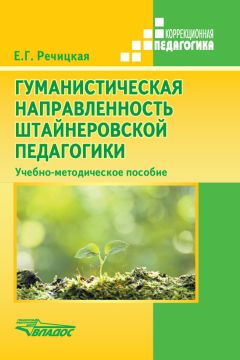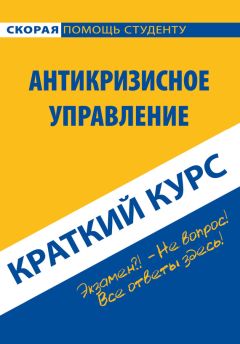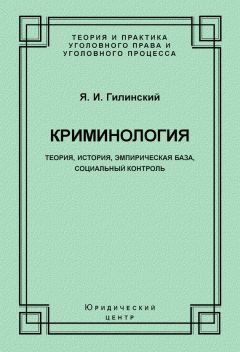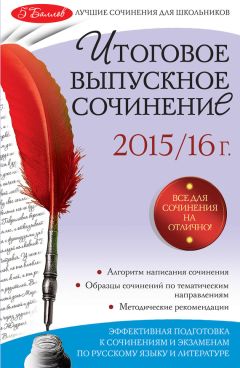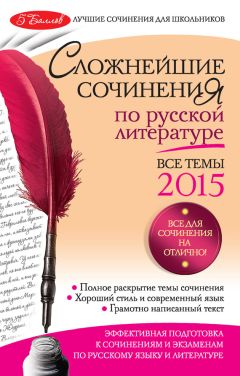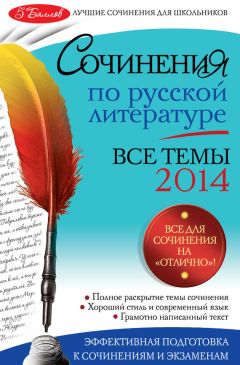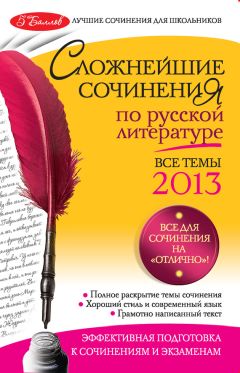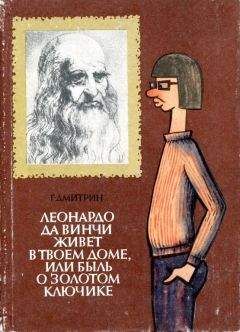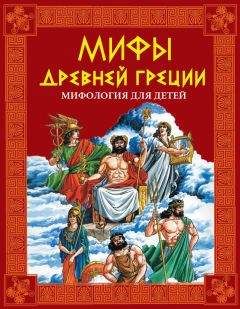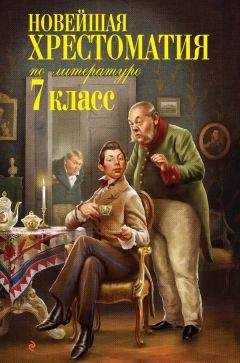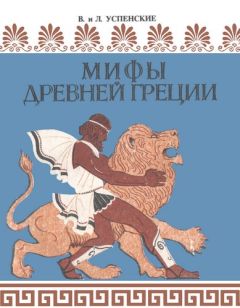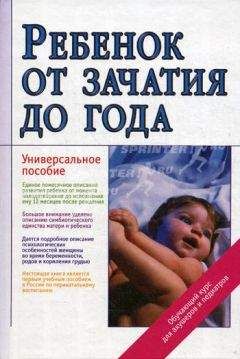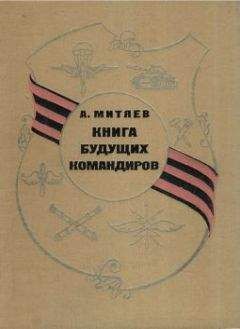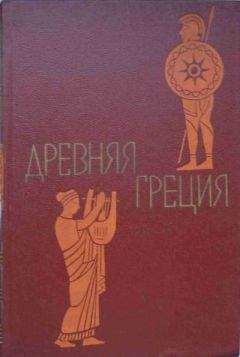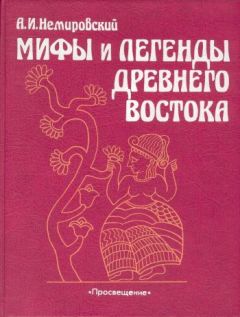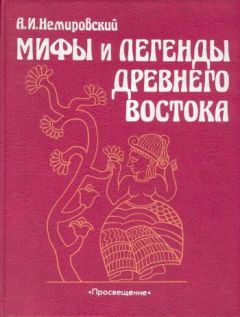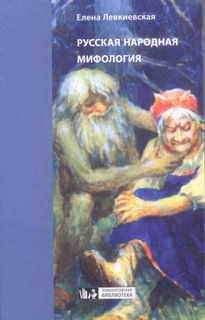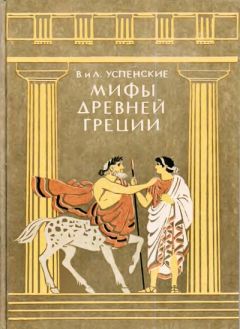Елена Айзенштейн - Образы и мифы Цветаевой. Издание второе, исправленное
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Образы и мифы Цветаевой. Издание второе, исправленное"
Описание и краткое содержание "Образы и мифы Цветаевой. Издание второе, исправленное" читать бесплатно онлайн.
Новая книга «Образы и мифы Цветаевой» создает представление о Цветаевой-поэте в диапазоне от 1916 до 1941 года. В настоящей работе много внимания уделено процесcу совершенствования текста в рукописи («Поэма Воздуха», поэма «Автобус»), взаимоотношениям Цветаевой и Ахматовой, их стихотворным посвящениям друг другу, восприятию Цветаевой личности Льва Толстого. Издание второе, исправленное. Книга дополнена фотографиями (Интернет). В первом издании вышла под названием «Стенограф жизни», 2014.
Океана за окоем
В 1925 году Пастернак писал Цветаевой о том, что природа становится историей, и ему бы хотелось быть историографом. Это должно было быть близко и понятно Цветаевой, которая в письме 1933 года к Вере Буниной написала, что в ней «вечно и страстно борются поэт и историк» (VII, 253). Вероятно, поэтому в черновиках «Автобуса» возникнет имя автора «Бедной Лизы» и великого историографа Карамзина: во время работы над отрывком «Каждый росток – что зеленый розан…»:
Слухом – так узник не слышит птиц!
Карамзин на газонах ниц!176
Появление в таком контексте фамилии Карамзина могло быть связано с любовью к природе, с мыслью Пастернака, об историзме творчества: «Даже огурцы должны расти на таком припеке, на припеке исторического часа»177.
Превращение автобуса в ошалелого бычка происходит благодаря близости природе стихов спутника. Он вывозит героиню за город, с ним она, восхищенная, открывает зелено-голубо-лазоревый мир искусства. Вариант того же мотива – в стихотворениях «Поезд жизни», «Побег», в черновике письма Цветаевой к Б. Пастернаку: «…я рвалась, оглядывалась на Вас, заглядывалась на Вас – как на поезд заглядываешься долженствующий появиться из тумана и который хочешь-не хочешь – увезет»178. Под действием загорода душа лирической героини делается юной, радостной, ее глаза прозревают. Спутник дарит глазам Цветаевой хрусталик искусства; его умение видеть мир делает ее богаче. В черновике поэмы, в не вошедших в окончательный текст строчках:
Позеленевшим, прозревшим глазом
Вижу, что счастье, а не напасть,
И не безумье, а высший разум:
С трона сшед – на четвереньки пасть…179
Во время работы записан вариант «проросшим глазом»180, сближающий творчество с прорастанием зерна. И раньше «крестьянские» глаза, «зеленые – соленые», (I, 426) были символом лирики. Цветаева не обычная крестьянская баба, а поэт, и потому она иногда застится от солнца181, смеется или плачет, если чьи-то стихи оказываются лучше, чем ее собственные, если световой ливень чужой лирики заставляет опустиить глаза, как это было в 1918 году с Блоком и в 1925 году с Пастернаком («Русской ржи от меня поклон…»). Она умеет забыть о своих царствах, своей гордыне, превратиться в благодарного читателя чужих стихов:
По сторонам потянувши носом,
Вижу, что был совершенно здрав
Тот государь Навуходоносор —
Землю рыв, стебли ев, тра‘ву жрав182 —
Это же ударение встретилось в стихотворении Пастернака «Годами когда-нибудь в зале концертной…»: «Художница пачкала красками тра’ву…» из сборника «Второе рождение». Это стихотворение вошло и в однотомник 1933 года, подаренный Пастернаком. У Цветаевой Навуходоносор – символ близости природе, воплощенной в чужой лирике. Вероятно, Цветаева вспоминает этот образ, так как именно Навуходоносор II в 6 веке до н.э. построил висячие сады Семирамиды, одно из семи чудес света. В поэме упомянут и Ж.-Ж. Руссо. Поэт – Навуходоносор и «Жан-Жаков брат»183. Навуходоносором II и обожателем Лотоса назвал себя в одном из последних писем влюбленный в Элизу Криниц, в свою Мушку, поэт Генрих Гейне. 80-летию со дня смерти Гейне Цветаева посвятит запись в рабочей тетради 17 февраля 1936 года184. По всей видимости, Цветаева вспоминала и «Юбилейное»:
Но поэзия —
∞∞∞∞∞пресволочнейшая штуковина:
существует —
∞∞∞∞∞и ни в зуб ногой.
Например,
∞∞∞∞вот это —
говорится или блеется?
Синемордое,
∞∞∞∞в оранжевых усах,
Навуходоносором
∞∞∞∞библейцем —
«Коопсах».
В рабочей тетради, среди черновиков – двустишие, строящееся на игре звуков: «Навуходоносор / Поведи носом186. Бычком на зеленом лугу Цветаева вновь почувствовала себя благодаря пастернаковским стихам. Среди них в книге 1933 года (ранее в книге «Второе рождение») стоит отметить «Лето» (1930):
Ирпень – это память о людях и лете,
О воле, о бегстве из-под кабалы,
О хвое на зное, о сером левкое
И смене безветрия, вёдра и мглы.
Стихотворение должно было привлечь внимание Цветаевой мотивами лета и друзей, бегства от цивилизации в дом природы, мотивом пастбища, сопоставлением женщин и облаков, близостью неба, пушкинской темой пира во время Чумы, восприятием творчества залогом бессмертия, образом Мэри-арфистки:
И осень, дотоле вопившая выпью,
Прочистила горло; и поняли мы,
Что мы на пиру в вековом прототипе —
На пире Платона во время чумы.
………………….
И это ли происки Мэри-арфистки,
Что рока игрою ей под руки лег
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог.
У Пушкина не сказано, что Мэри играла на арфе. На арфе играл Реми, герой любимой детской книжки Цветаевой «Без семьи», героиня романа Де Сталь «Коринна, или Италия». Этот инструмент в качестве символа лирики неоднократно встречается в цветаевской тетради в связи с Пастернаком187. Лирика – зеленый дым и сон, расплавляющий, словно январское олово, обиды жизни, паруса, возвращающие в русую Русь. Лирическая героиня мчит с поэтом «не за город», а «за календарь», в область искусства, ведь искусство то же произведение природы, но просвещенное «светом разума и совести» (V, 347). Вобрав все соки и токи чужого творчества, услышав звук родной арфы, она цветет, словно вишневое дерево:
От лютика до кобылы —
Роднее сестры была!
Я в руки, как в рог, трубила!
Я, кажется, прыгала?
Так веселятся на карусели
Старшие возрасты без стыда.
Чувствую: явственно порусели
Волосы: проседи – ни следа…
Кружение карусели – модель будущего движения от земли, потому что рай Цветаева видела круглым188. А каруселью называла Марина Ивановна состояние звуковых галлюцинаций, которые происходили у нее, начиная с 12—13 лет189, поэтому воспоминание о карусели в поэме – знак того, что речь идет о состоянии творчества, о дионисийском волнении, охватывающем лирическую героиню.
Роли спутников поменялись: теперь она вожатая с зазеленевшей хворостиной в руках, вероятно, с вербной веточкой, что озвучивает сходство поэта с пастухом, дующим в дудочку. Скотину выгоняли в поле в первый раз на Юрия, в день поминовения Святого Георгия, с веткой с вербного воскресенья190. Спутник лирической героини – ведомый ею гусь на выпас («Зазеленевшею хворостиной / Спутника я, как гуся, гнала»); дитя, идущее к воротам «львиной пастью», в цветаевские царства, в «счастье». Белая одежда спутника – духовная чистота и красота творческих парусов, чтобы плыть на парусах стихов «океана за окоем»191.
Тонкость пояса – черта, сближающая спутника с лирической героиней Цветаевой: «лезгинской», тонкой талией обладают Царь-Девица (1920) и Певица в неоконченной поэме 1935 года – это знак душевной чуткости, способности «сквозь иголочку» (III, 219) стиха пройти в Царство Небесное, библейский мотив, присутствующий у Б. Пастернака в «Волнах» («Второе рождение»):
Он дальше шел. Он шел отселе,
Как всякий шел. Он шел из мглы
Удушливых ушей ущелья —
Верблюдом сквозь ушко иглы.
Из черновой тетради 1924 года в 1933 году Цветаева выписала строки: «Проливать воду в песок только потому, что она не фильтрована. А верблюд (араб) смотрит и умирает»192. Забыв первоначальный смысл, она прокомментировала их, как слова о Борисе Пастернаке, не отсылающем ей писем из-за неоконченности, и о себе: « (NB! то, что так часто делаю я сама, но из-за неполучения их ни один верблюд (араб) не умирает. Я никому не была нужна как вода»193. Запись перекликается с мотивами поэмы. Одухотворенный спутник оказывается толст сердцем. Лирическая героиня поэмы раздосадована доверчивостью, с какой вверилась спутнику, окруженному тенетами ее стихов. Она объясняет, что для нее является счастьем, что заставляет ее забыть себя, и это «двойной» ответ, как двойственна речь поэта. Вспоминается детство на Севере, пора «на четвереньках», когда счастьем было найти четырехлистник клевера:
Счастье? Но это же там, – на Севере —
Где-то – когда-то – простыл и след!
Счастье? Его я искала в клевере,
На четвереньках! четырех лет!
Четырехлистником! В полной спорности —
Три ли? четыре ли? Полтора?
Счастье? Но им же – коровы кормятся
И развлекается детвора
Четвероногая, в жвачном обществе
Двух челюстей, четырех копыт.
Счастье? Да это ж – ногами топчется,
А не воротами предстоит!
Уподобление детворе и коровам не случайно. Поэты – вечные дети. Аполлон получил кифару от Гермеса в обмен на коров. Мотив стиха как четырехлистного клевера, древнейшей эмблемы единства и гармонии, звучал в стихотворении «Стихи растут как звезды и как розы…»: «Мы спим – и вот, сквозь каменные плиты / Небесный гость в четыре лепестка» (1918) (I, 418). В цветаевских рабочих тетрадях до сих пор можно найти засушенные на память листья. Четырехлистный листочек клевера Цветаева клала «на высушку в книжку»194 – образ из черновиков поэмы «Автобус», – метафора остановки прекрасного мгновения в тетради (гербарий души), сухом поэтическом отчете о прожитых мгновениях счастья, напоминающая мотив пушкинского «Цветка». В поэме речь идет не вообще о счастье, а о счастье поэтов. По словам спутника, изменившего своему детству, счастье не может быть воротами, на которые он смотрит с недоумением. Безусловна связь этих ворот с воротами, у которых расстаются Молодец и Маруся, с дверью с ржавым замком «Красного бычка» и другими символами, воплощающими творчество дверью в Царство Небесное. Вероятно, Цветаева напоминает Пастернаку его стихотворение 1915 года «Счастье» из «Поверх барьеров», вошедшее и в сборник 1933 года, где ощущение счастья сопряжено с красотой природы:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Образы и мифы Цветаевой. Издание второе, исправленное"
Книги похожие на "Образы и мифы Цветаевой. Издание второе, исправленное" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елена Айзенштейн - Образы и мифы Цветаевой. Издание второе, исправленное"
Отзывы читателей о книге "Образы и мифы Цветаевой. Издание второе, исправленное", комментарии и мнения людей о произведении.