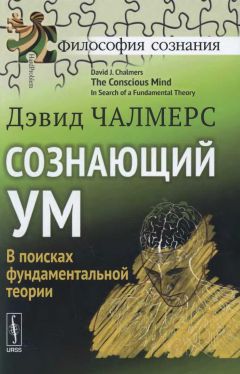В. Шлыков - Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания"
Описание и краткое содержание "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания" читать бесплатно онлайн.
В монографии исследуется широкий круг вопросов, связанных с философией истории. Что такое история и историчность, что значит помнить и традировать смысл, в чем онтологическая особенность прошлого, каковы структуры мифологического сознания. Предлагается оригинальная трактовка роли другого (других) для истории, решается извечная проблема взаимодействия мира и сознания. Впервые вводится в философию концепт анцестральной памяти, восстанавливается в своих философских правах старинное понятие судьбы.
Письмо и есть такая априорная телесность21: оно освобождает объекты от фактичной телесности тех, кто имеет дело с этими объектами, путём её виртуализации [там же, с. 220], оно тем самым обеспечивает «абсолютную традиционализацию объекта, его абсолютную идеальную объективность», освобождая смысл «от его наличной очевидности для реального субъекта и от наличного обращения внутри определенного сообщества» [там же, c. 108]. «Абсолютно виртуализируя диалог, письмо создает определённого рода автономное трансцендентальное поле, в котором может и не быть никакого наличного субъекта» [там же, с. 109]. Идеальная объективность такого поля, и вместе с тем, её абсолютная традируемость делает её наивысшей возможностью всякого конституирования, возможностью полной понятности трансцендентальному субъекту, который и обнаруживается (в движении εποχή) именно исходя из этой понятности. Нельзя не добавить, что такое письмо становится носителем чистой памяти: внешней, несобственной, не фактичной, но идеальной, реактивируемой вне зависимости от психологических установок и способностей наличного субъекта, не обусловленной чувственной пространство-временностью, но указывающей на объективную возможность «чистой традиции и чистой истории» [там же, с. 113].
1. 2. 3. Традиция и Сейчас: воспоминание как реактивация смысла
Существует ли иная возможность: возможность потери, забвения, исчезновения истины? И если да, то откуда ей взяться? Сам Гуссерль не раз уточнял в Начале и других работах, «что если смысл хоть раз появился в эгологическом сознании, то его полное уничтожение становится невозможным» [там же, с. 118]. Но поскольку смысл никогда не есть сам по себе или некой чисто духовной внутренней сущностью, а является «объектом», неразрывно связанным с телесностью письма, то он представляется уязвимым по крайней мере как традируемый смысл. Действительно, можно помыслить полное уничтожение всех письменных памятников и прочих информационных носителей какого-то смысла и тем самым радикальное прерывание его истории; эта катастрофа, конечно, не затронет внутреннюю историчность идеальных сцеплений смысла, но сильно затруднит его фактичное традирование. Ещё опаснее неминуемое осаждение и окаменение смысла, настигающее его как раз тогда, когда он благополучнее всего передаётся, изучается и воспринимается. Соблазн пассивных рецепций останавливает трудную и малопонятную реактивацию изначальной его очевидности; последняя подменяется очевидностью данной, наличной, и потому лишь поверхностной, в обход всех осадочных пластов исторически накопленных смысловых сцеплений. Нежелание расцеплять их ведёт к абсолютизации относительного, воображаемого, индифферентного. Подлинная реактивация – это всегда последовательное вскрытие и полная ответственность за реактивируемый смысл, это «забота об однозначности», выражаемая прежде всего в тщательнейшей «выделке [Prägung] точных слов, предложений, фразовых взаимосвязей» [там же, с. 222]. Борьба с двусмысленностью, то есть с неопределённостью смысла, равнодушием к его изначально-абсолютной точности, есть для Гуссерля первоочередная задача всякого честного «традиционалиста». Ибо именно «однозначность – это условие общения между поколениями исследователей на любом расстоянии. Она гарантирует точность перевода и чистоту традиции» [там же, с. 132]. Такое требование однозначности Деррида называет «редуцированием эмпирической истории до истории чистой. Причём эту редукцию приходится бесконечнo начинать заново, так как язык и не может, и не должен сохраняться под защитой однозначности» [там же, с. 133].
Французский философ критикует эту редукцию, называя её «абсурдной и противоречивой». Она напоминает ему (с точностью до противоположного) антиисторический проект Джойса, который перемешивает и интериоризует все культуры и традиции, тем самым упраздняя их, добиваясь однородной однозначности непередаваемого; напротив, Гуссерль редуцирует и методически обедняет эмпирическую историю в попытке ухватить чистую историчность, чья идеальная однозначность существует вне любой культуры или традиции. Оба этих проекта предполагают за историчностью некую бесконечную телеологию, которая сводит на нет индивидуальную конечность (у Джойса – конечность игры, у Гуссерля – конечность реактивации) и открывает её (историчности) «априорную структуру» [там же, с. 232]. Однако как бы мы ни относились к намерениям Гуссерля (и Джойса) распрощаться со столь милыми интеллектуальному духу двусмысленностями фактической истории, мы не можем не восхититься его смелым августинианским ходом: отождествить Живое Настоящее с историческим Настоящим, увидев в последнем тотальность, имплицирующую «совокупное культурное прошлое в некоторой неопределенной, но структурно определенной всеобщности», и даже более, имплицирующую «преемственность имплицирующих друг друга прошлых, каждое из которых представляет некоторое прошедшее культурное настоящее» [там же, с. 234]. Тем самым традирование спасается от неизбежной энтропии изначальной очевидности, ибо оно не есть эстафета смысла с её нарастающей усталостью и диссипацией, но само единство текуче-настоящей жизненности и, как таковое, «живое движение совместности и встроенности друг в друга [des Miteinander und Ineinander] изначального смыслообразования и смыслооседания» [там же, с. 235]. Иными словами, Живое Настоящее – такое же априори для историчности смысла, как и изначальное прошлое; точнее, важно именно их совместное движение и само-традирование. Подлинная история, тем самым, «есть не что иное, как встречное возведение исторических смысловых образований, данных в настоящем, или, соответственно, их очевидностей – вдоль документированной сети исторических встречных отсылок – к скрытому измерению лежащих в их основе перво-очевидностей» [там же, с. 237]. Традиция движется не вперёд, а вспять; её внутренняя историчность начинается с историчности вспоминающего её индивида22; её Априори – и Тогда, и Сейчас, точнее, Тогда и Сейчас, Тогда-Сейчас23.
Итак, «наше настоящее есть исторически само по себе Первичное» [там же, с. 238]. Мы на одном из абсолютных полюсов историчности, который приоткрывает для нас «исторический смысл изначальности», придающий всему историческому становлению «устойчивый истинностный смысл» [там же, с. 242]. Способны ли мы сегодня, именно сей же час, «в свободном варьировании и пробегании жизненно-мировых мыслимостей» обнаружить «тот сущностно-всеобщий состав, который проникает собой все варианты» [там же, с. 240], но который сам «инвариантен во всех мыслимых вариациях» и тем самым «понятен для всех будущих поколений, традируем и воспроизводим в идеальном межсубъектном смысле» [там же, с. 243]? Иными словами, способны ли мы отвлечься от фактичной истории в пользу истории будущностной, способны ли уловить грудью пьянящий дух первооткрывателя, того зачинателя культур и традиций, который мог всё, потому что не обладал ничем? Гуссерль словно таким обходным и запоздалым приёмом вносит свой вклад в германскую ницшеану: не буквой исследования, но духом соратничества, предлагая свой рецепт утомлённому историей западному человечеству. Любая конечная традиция есть лишь малая возможность традиции бесконечной, любая фактичная история есть лишь продукт [распада] внутренней тотальной истории, любая «неисторичность» каких угодно древних и современных обществ есть лишь частный модус чистой историчности, которая и есть «европейская Идея бесконечной задачи и бесконечной традиции» [там же, с. 151]. Первогеометром является не Фалес, живший в таком-то веке такой-то эры, но Я-сам тогда, сейчас и в каком угодно будущем. Речь, стало быть, «идет именно об изначальном знании, касающемся всей целостности возможных исторических опытов». Историчность как горизонт – «это всегда-уже-здесь будущего, хранящего в неприкосновенности неопределенность своей бесконечной открытости, даже объявившись сознанию… Понятие горизонта превращает абстрактное условие возможности критицизма в конкретную бесконечную потенциальность, которая тайно была уже в нем предположена; в нем совпадают, таким образом, априорное и телеологическое» [там же, cс. 154—155].
1. 2. 4. Историчность: не понятие, но идея, смысл и априори
Что же такое историчность? Безусловно, идея. Как возможность очевидности, «горизонт любого созерцания», «невидимая среда видения» [там же, с. 187], идея есть «полюс чистой интенции, очищенной от всякого определённого объекта», она есть «лишь отношение к объекту, то есть сама объективность» [там же, с. 188]. Гуссерль в Идеях I приводит великолепный пример диалектики усматриваемой идеи и созерцаемого понятия, достойный цитирования полностью: «Идея мотивированной по мере сущности бесконечности сама – вовсе не бесконечность; но усмотрение, что такая бесконечность в принципе не может быть дана, не исключает идеи такой бесконечности, а, напротив, требует усмотримой данности таковой» [Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т.1, §143]. Мы тем самым должны решительно отказаться от историчности в качестве понятия, чтобы обрести её в непререкаемой чистоте идеи. Именно такой идее отводит Рикёр «роль посредника между сознанием и историей» («Гуссерль и смысл истории», в [Гуссерль. Начало геометрии, с. 185]). Однако, надлежит ещё спросить об историчности самой этой идеи, об историчности историчности, то есть проверить нашу идею антиметафизическим аргументом Аристотеля. Какова её абсолютность, её вечность? Она сверх-временна [там же, с. 237], и тем самым, благодаря своей горизонтности всевременна, а не вневременна (что было бы в случае вертикальной, платонической иерархии). Идея вне истории ничто, хотя из самой истории никак не определима24. Идея историчности поэтому есть идея трансцендентальной субъективности, и, следовательно, сама трансцендентальная историчность. Однако, желание Гуссерля во что бы то ни стало избежать любого контакта с шпенглеровскими «мифо-магическими» априорностями побудило его в качестве последнего рубежа избрать классически безупречный «телеологический разум, проникающий собой всю историчность» [там же, с. 244]. И хотя он сам признаёт всю поверхностность наскоро приподнятого вопроса об «обще-человечестве» и animal rationale25, это не спасает его от сокрушительной иронии Деррида, тут же обрушивающегося на его лишь прикрытое историчностью окказионалистское картезианство: «Не есть ли Бог конечное и пребывающее в бесконечном осуществление, имя горизонта горизонтов и энтелехия самой трансцендентальной историчности?.. Именно через конституированную историю говорит и проходит Бог» [там же, с. 201]. Общечеловеческое смыкается здесь со сверхчеловеческим, бесконечный телос с абсолютным полюсом [там же, с. 200] – чтобы в некоей предвечной божественной игре высветлить бытие-как-историю и её историчность как смысл [там же, с. 204]. «Неудача» здесь Гуссерля по сравнению с «удачей» позднего Хайдеггера26 не может быть, конечно же, всего лишь данью первого той традиции, от которой второй отмежевывался даже более радикальным, чем сам Деррида, образом; скорее, тут следует говорить о безупречной приверженности самой мысли той традиции, в рамках которой мысль ощущает и осмысляет себя таковой и которая сама есть мысль постольку, поскольку возобновляется и реактивируется как таковая. С этой точки зрения уже Хайдеггер и Деррида оказываются «ренегатами мысли», не пожелавшими традировать то, что было исторически воспроизводимо до и для них – при том немаловажном открытии, что до и есть для. Последнее уточнение, а вовсе не воображаемая полемика, в первую очередь значимо для поставленных целей; следуя традициональной интенции, мы дадим обобщающий вышесказанное абрис Гуссерлевой внутренней (или чистой) историчности, который, как мы уже вполне убедились, выводит понимание этой трансцендентальной категории на качественно новый уровень.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания"
Книги похожие на "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "В. Шлыков - Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания"
Отзывы читателей о книге "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания", комментарии и мнения людей о произведении.