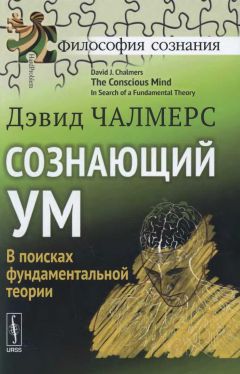В. Шлыков - Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания"
Описание и краткое содержание "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания" читать бесплатно онлайн.
В монографии исследуется широкий круг вопросов, связанных с философией истории. Что такое история и историчность, что значит помнить и традировать смысл, в чем онтологическая особенность прошлого, каковы структуры мифологического сознания. Предлагается оригинальная трактовка роли другого (других) для истории, решается извечная проблема взаимодействия мира и сознания. Впервые вводится в философию концепт анцестральной памяти, восстанавливается в своих философских правах старинное понятие судьбы.
А история возвращается как история сокрытия/забвения Бытия. «Конечность Dasein – разумение бытия – лежит в забытости» [Хайдеггер. Кант и проблема метафизики, с. 135]. Забвение как фундаментальная характеристика присутствия требует и фундаментальной аналитики, которая, впрочем, подобно гегелевской «истории» Абсолютного духа свидетельствует скорее о возможных путях самоконституирования Dasein, чем о трансцендентальных горизонтах последнего. Однако конечность, предполагаемая временностью, вовсе не предполагается историчностью. Поэтому мы сейчас вновь обратимся к мысли того, кто уповал на бесконечную открытость и незавершённость традиции как неудержимой и непрерывной реактивации первоначального исторического смысла, – к поздней мысли Эдмунда Гуссерля.
Глава 2. Историчность как традирование смысла и смысл традиции. «Начало геометрии» Гуссерля/Деррида
1. 2. 1. Историчность первоначала и первосмысл историчности
Делом всей философской жизни было для Эдмунда Гуссерля идея универсальной философии как чистой науки и критика современного её осуществления, характеризующегося засилием объективизма и историзма. Первый спрашивал о мире, какой он «есть по себе», обладающий «объективной истиной» и безусловной значимостью для каждого; именно такой мир очевиден, преддан опыту и служит альфой и омегой для строгих, физикалистских наук. Второй на основании тезиса об относительности и непрерывном становлении всего сущего оправдывал субъективистский произвол мнения и «истину факта», уникального в своём неповторимом своеобразии и единственно реального в своей редукции «идеальных предметностей». Все вместе они привели к прагматически-выгодному раздроблению изначально единой системы наук и потере внимания к тому, что Гуссерль называл «сознательно руководящей человеческим становлением энтелехией» [Гуссерль. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология, с. 32]. Таковы симптомы «кризиса европейских наук и европейского человечества вообще», свидетельствующего об «утрате их жизненной значимости» и подмене скрытого внутреннего смысла внешними успехами; этот кризис не материальный, а духовный, а потому наиболее опасный. Путь к преодолению кризиса Гуссерль видел в возрождении трансцендентализма – одной из философских стратегий Нового времени – в виде детально им разработанной трансцендентальной феноменологии.
Мы не будем здесь касаться анализа сути трансцендентальной философии Гуссерля – её метода, её интенций, её проблем, – это сделано уже очень многими, в том числе обстоятельно и в русскоязычной литературе18, – но сразу обратим внимание на немаловажное для нашей темы обстоятельство: те исследования в области «теории человека, человеческого сообщества, культуры и т. д.», которые поначалу, в период внутреннего оформления феноменологии, определялись Гуссерлем как «задачи второочередные, региональные и подчинённые» [Гуссерль. Картезианские размышления, §29], теперь, в период Кризиса, порождают невиданный замысел: «высветить, с одной стороны, новый тип или новую глубину историчности и, с другой, определить в соответствии с этим новые инструменты и исходное направление исторической рефлексии» [Гуссерль. Начало геометрии. Введение Жака Деррида, c. 10]. «Историчность идеальных предметностей, то есть их начало и их традиция» – вот новые ориентиры Гуссерлевой мысли, в движении к которым он надеется развить совершенно своеобразную, но лишь проясняющую глубинный telos феноменологии, историческую интуицию. Конечно, это вовсе не значит, что историзм теперь в союзниках у Гуссерля: последнего по-прежнему интересуют универсалии, а не случайные единичности, априори, а не апостериори, идеальности, а не сомнительные «реальности», но именно поэтому вдруг возникший интерес к истории не был для Гуссерля средством обоснования собственной философии, подобно опрометчивым позициям многих философов, от Аристотеля до Гегеля. В истории, взятой в своём чистом, априорном виде, в дистиллированной до идеальной квинтэссенции историчности, он полагал отыскать отблеск исторического начала, перводвижения, случившегося некогда и сохраняющегося в непрерывно возобновляемой традиции в качестве уникального примера, образца, истока этой самой традиции. Такое, раз случившееся начало разве не будет при всей своей конкретной фактичности универсальным и идеальным априори, являющимся для дальнейшей истории смыслообразующей и скрепляющей структурой? Отправной точкой этих, воистину «странных» для феноменологии размышлений служит небольшой текст, приложенный в виде примечания к §9а Кризиса и озаглавленный «Начало геометрии». Впоследствии к нему Жак Деррида предпослал пространное и очень важное Введение, без которого разобраться в щедро рассыпанных Гуссерлем намёках было бы крайне проблематично. На основании этих двух, взаимопроникающих текстов мы постараемся понять совершенно конкретный – феноменологический – смысл историчности и снять с неё трансцендентальный слепок.
Внимательное прочтение Кризиса и Начала убеждает в мысли, что Гуссерль актуализирует проблемы истории, прошлого, историчности на двух, исходно разных путях: один ведёт от установления корреляции «между миром и объективированной в человечестве трансцендентальной субъективностью» [Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология, с. 251] к анализу её интерсубъективных модификаций, и прежде всего удивительной аналогии между конституированием ego как себя-прошлого и как себя-другого19; второй отправляется от требования «через возведение к перво-очевидностям окончательно и подлинно реактивировать в полной изначальности великие познавательные конструкции геометрии и так называемых „дедуктивных“ наук» [Начало геометрии, с. 226], а через них осуществить и «перечитывание и пробуждение „смысла“ истории в целом» [там же, с. 11]. Первый путь – это внутренний путь феноменологии, движущейся от переживания к воспоминанию, от изначального присутствия к приобретению собственной временности, от соприсутствия к установлению единого жизненного мира, аподиктически охватывающего культуры, исторические традиции, языки; второй путь подсказан «кризисом европейских наук» и судьбой новоевропейского человека, который, как оказалось, не случайно, но исторически предпочёл дух объективизма и власть факта трудному поиску перво-очевидностей и их постоянному возобновлению. Кто более всего виноват в этом? Галилей или Декарт? Гуссерль надеется, что через рассмотрение Галилеевой геометрии как архе-типичного примера он придёт к «самым глубоким смысловым проблемам, проблемам науки и истории науки вообще, а в конце концов и всемирной истории вообще» [там же, с. 210]. Деррида так и комментирует его текст: как если б он назывался «О начале истории вообще, в том числе и геометрии». Сам Гуссерль называет геометрию традицией, одной из бессчётных, «в которых протекает наше человеческое существование» [там же, с. 212]. Что, однако, значит: традиция? Если это традирование, то чего? Некоего имплицитного, отвечает Гуссерль, а значит, подлежащего экспликации знания, «обладающего неоспоримой очевидностью». «Оно начинается с поверхностных само собой разумеющихся истин о том, как все традиционное возникло из человеческого деяния, как затем существовали ушедшие теперь в прошлое люди и сообщества, среди которых жили и первые изобретатели, создававшие новое из подручных, сырых, но уже духовно обработанных материалов и т. д. Но от поверхностного путь ведет нас в глубины» [там же, с. 212]. В этих глубинах – скрытый исток традиции, первое деяние, «первая творческая активность». Будучи уникальным, учреждающим фактом, этот «исторический исток становится незаменимым, а стало быть, инвариантным» [там же, с. 41]. И вот уже эта новая инвариантность, инвариантность того, «что, будучи реальным, никогда не может быть повторено, сменит в принципе, в некоей истории истоков, инвариантность эйдетическую, то есть инвариантность того, что может быть по желанию и бесконечно повторено» [там же, с. 41]. Речь, конечно же, не идёт о перводействии в некоторой неопределённой просто истории, задействованной только тем фактом, что человечество существует веками, следовательно уже этим имеет историю; не важно даже имя того «первогеометра», который, будь он и сам Фалес, совершил нечто, доселе небывалое; куда важен смысл, точнее, перво-учреждение смысла, которое и порождает собственно историю как реактивацию и традирование того перво-смысла. Таким образом, историчность перво-начала есть не то же, что и историчность порождаемой им истории: скорее, здесь существуют отношения субсумпции, то есть эйдетического подчинения второго первому. Иначе говоря, первая историчность есть историчность чистая, вторая – эмпирическая.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания"
Книги похожие на "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "В. Шлыков - Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания"
Отзывы читателей о книге "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания", комментарии и мнения людей о произведении.