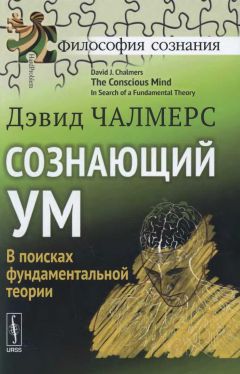В. Шлыков - Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания"
Описание и краткое содержание "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания" читать бесплатно онлайн.
В монографии исследуется широкий круг вопросов, связанных с философией истории. Что такое история и историчность, что значит помнить и традировать смысл, в чем онтологическая особенность прошлого, каковы структуры мифологического сознания. Предлагается оригинальная трактовка роли другого (других) для истории, решается извечная проблема взаимодействия мира и сознания. Впервые вводится в философию концепт анцестральной памяти, восстанавливается в своих философских правах старинное понятие судьбы.
1. 1. 5. Анализ собственной историчности и герменевтический круг изначальной временности
Рассмотрим чуть подробнее «логику» собственной историчности. Во-первых, «„жизненная взаимосвязь“, в которой присутствие постоянно держится, конституируется событием присутствия» [Конев. Критика способности жить, с. 159]. При этом, «событие в фундаментальной онтологии нельзя понимать в качестве исторического факта, оно есть бытийное основание историчности присутствия. Историчность присутствия является истоком мировой истории, где уже возможно то, что классическая историография называет историческим фактом» [там же, 164]. Событие есть то, как присутствие сбывается, простирается «между рождением и смертью», организует себя как целое, о-собляется. И на вопрос «как?» Хайдеггер отвечает: решительно заступая. В решимости присутствие встает перед лицом смерти и принимает на себя то сущее, которое оно есть в своей брошенности. Причём, если в неподлинном модусе присутствие пассивно заброшено в мир, то в подлинном оно само бросает себя, «размыкая всякий раз открывающиеся фактические возможности исходя из наследия, которое оно как брошеное принимает» [Бытие и время, с. 383]. Принятие наследия есть, стало быть, целиком дело выбора тех возможностей, которыми бы присутствие могло передавать «себя себе самому». Этот-то свободный выбор и эти «наследуемые, но всё равно избранные» возможности и становятся судьбой присутствия. Однако, поскольку всё это свершается в-мире и в модусе фактичности, присутствие не в состоянии отдалиться от со-присутствующих, напротив, оно и их также должно включить в собственную экзистенцию, выбрать как со-бытийствующих и со-возможных. Тогда судьбоносность присутствия впервые замыкается в полноте своего события, определяясь как со-бытие на историческом пути [Бытие и время, с. 384—385].
Во-вторых, важным конститутивным моментом историчности является возобновление. «Возвращающаяся к себе решимость становится возобновлением преемства (наследия)» [Конев, 165]. «Возобновление есть отчетливое преемство, т.е. возвращение к возможностям сбывшегося присутствия», пишет Хайдеггер [Бытие и время, с. 385]. То есть некогда «другое» присутствие заступало к собственным возможностям и теперь они, ещё действующие сегодня как прошлые, становятся наследием сбывающегося присутствия. Однако, размышляет он далее, «возобновление (Wiederholung) скорее возражает возможности присутствовавшей экзистенции. Возражение (Erwiderung) возможности в решимости вместе с тем как мгновенно-очное (augenblickliche) есть отзыв (Widerruf) того, что в сегодня действует как «прошлое»»14 [Бытие и время, с. 386]. Таким образом, возобновление как особый модус решимости принимает прошлое не так, как оно просто есть (помнится), но так, чтобы оно наступало всеми своими возможностями, которые только когда-либо реализовывались, и побуждало к выбору из них тех, которые присутствие готово взять на себя как свои и тем самым отменить (ну или хотя бы отложить) все прочие. Только тогда судьба и возобновление будут модусами «собственной историчности присутствия». «Собственная историчность понимает историю как возвращение (Wiederkehr) возможного и знает о том, что возможность возвращается, лишь если экзистенция судьбоносно-мгновенноочна открыта для нее в решившемся возобновлении» [Бытие и время, с. 391—392]. ««Возвращение» в этом случае – не повторение и не традиция, а новое «проигрывание» истории, «прошедшее» становится не просто актуально, а таким, как если бы свершалось мною здесь и сейчас. Здесь-то и появляется подлинная история как история в сослагательном наклонении, против которой всегда выступают историографы (историки). Но эта не история типа «что было бы, если бы того-то и того-то не было (было)», а история типа, который реализует знаменитую мысль Паскаля: агония Христа всегда длится, т. е. надо так жить, как если бы Христос только что был распят, и ты этому ужаснулся. Это и было бы «возвращением» возможности» [Конев, 174].
Не случайно разговор об историчности привёл к «истории в сослагательном наклонении»15. Ведь речь идёт о возможностях, которые хотя бы и тысячу раз были уже реализованы, остаются прежде всего моими возможностями, а значит отсылают к тому, чего ещё нет, к будущему, когда присутствие только сможет их реализовать. Но поскольку оно в них уже как-то заступило, эта реализованность уже есть как набросок, план, протенция по Гуссерлю. Где ещё, как не в воображении, присутствие способно иметь дело с прошлым как будущим, с бывшим как небывшим? Здесь необходимо обратить внимание на один примечательный текст Хайдеггера, созданный почти одновременно с «Бытием и временем», в котором «деконструируется» «Критика чистого разума». В нём он интерпретирует трансцендентальную способность воображения как «изначальное время» [Хайдеггер. Кант и проблема метафизики, с.101, 114], что даёт ей право быть «изначальным основанием возможности человеческой субъективности, причём именно в её единстве и целостности» [там же, 99]16. Действительно, в синтетическую деятельность трансцендентальной способности воображения входит подведение образов чувственности под понятия рассудка, причём чистые понятия, как полагает Кант, «не могут быть приведены ни в какой образ» [Критика чистого разума, А142, В181], если только этот образ сам не будет чистым. Как раз таким единственным чистым образом и является время [Хайдеггер. Кант и проблема метафизики, 59]. Кроме того, «способность воображения может быть названа способностью образования в характерно двойственном смысле. Как способность созерцать, она является образующей в смысле предоставления образа. Как независимая от присутствия вообще созерцаемого способность, она сама осуществляет, т. е. творит и образует, образ» [там же, 73]. В этом смысле она есть «чистая образующая способность» [там же, 108], образующая в себе время, причём в трояком чистом синтезе: чистой аппрегензии (синтез настоящего), чистой репродукции (синтез бывшего) и чистой рекогниции (синтез будущего). В конце концов, временность как изначальное время выводит к проблеме «внутреннейшей конечности» присутствия и тем самым замыкается на фундаментальную онтологию «Бытия и времени», которую мы вкратце, применительно к историчности, разобрали выше.
Что же в итоге? Насколько историчность остаётся равноисходной возможностью присутствия наряду с временностью, или оно падает жертвой её тотально-внеисторического временения? Чем, историчностью или временностью, всё же утверждается история? Следующие слова лишь подтвердят то, о чём мы, собственно говоря, уже догадались из предыдущего анализа. «Подлинное проникновение в суть истории, в ее „закон“ только тогда будет достигнуто, когда присутствие (историограф в способе бытия присутствия) своей решительностью здесь утверждает историю, свою историю, свою судьбу. Тогда раскрывается сила истории, сила возможного. Я знаю историю и ее суть, когда я ее утверждаю своей решимостью, своим „Да будет!“. Тогда я могу знать, могу понять и былых „Я“, которые делали то же самое. Историчность везде одна, а она-то и составляет суть истории как возможность ее» [Конев, 175]. Итак, историю единят её возможности, которые утверждаются временящей решимостью сегодняшнего присутствия быть впереди себя, и, поскольку «былые Я» уже исчерпали свои, но в принципе те же самые возможности, постольку быть и впереди всех былых. Никакого намёка на другость былого, которая бы была недоступной для синтетической деятельности воображения, зато была бы открыта сохраняющей пассивности памяти, мы не увидим (разве что в несобственном забвении среди людей, das man)17. Нам представляется герменевтически замкнутый круг, очерчивающий временное протяжение присутствия (Dasein). Глубже временности проникнуть, как полагает Хайдеггер периода «Бытия и времени», невозможно. «Мы не можем продолжать спрашивать об условиях временности как таковой. Путь вопроса… завершается (упирается в границу окружающего пространства молчания) в выведении на свет феномена изначальной временности» [Черняков. Онтология времени, с. 380]. «Понимание бытия, набросок в направлении времени – имеет конец в горизонте экстатического единства времени. […] Но этот конец есть не что иное, как начало и отправная точка для возможности всякого набрасывания» [Хайдеггер. Основные проблемы феноменологии, с. 437].
А история возвращается как история сокрытия/забвения Бытия. «Конечность Dasein – разумение бытия – лежит в забытости» [Хайдеггер. Кант и проблема метафизики, с. 135]. Забвение как фундаментальная характеристика присутствия требует и фундаментальной аналитики, которая, впрочем, подобно гегелевской «истории» Абсолютного духа свидетельствует скорее о возможных путях самоконституирования Dasein, чем о трансцендентальных горизонтах последнего. Однако конечность, предполагаемая временностью, вовсе не предполагается историчностью. Поэтому мы сейчас вновь обратимся к мысли того, кто уповал на бесконечную открытость и незавершённость традиции как неудержимой и непрерывной реактивации первоначального исторического смысла, – к поздней мысли Эдмунда Гуссерля.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания"
Книги похожие на "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "В. Шлыков - Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания"
Отзывы читателей о книге "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания", комментарии и мнения людей о произведении.