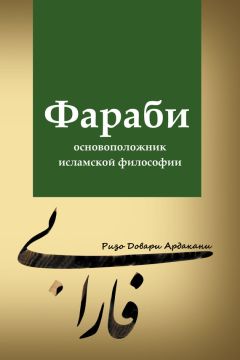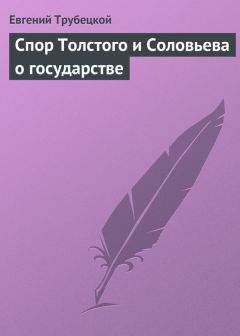Ян Красицкий - Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева"
Описание и краткое содержание "Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева" читать бесплатно онлайн.
Современный книжный рынок, казалось бы, насыщен переизданиями сочинений Владимира Соловьева и трудами о нем, однако книга польского философа «Бог, человек и зло», изданная в Польше в 2003 году и ныне впервые предлагаемая читателю в переводе на русский язык, представляет собой совершенно новое и необычное явление в историографии российской философии. Здесь обретает реальные черты та «икона Соловьева», которая существует в мировой культуре и содержит в себе огромный позитивный потенциал признания русского творческого вклада в мировую цивилизацию, сближения и взаимопонимания разных культур, в частности, в очень сложном польско-российском духовном пограничье.
Следует также иметь в виду, что Соловьев отделял “мистику”, то есть сферу мистического опыта, если можно так сказать, ортопрактику, от “мистицизма” как науки, принявшей за основу своей методологии то положение, что “первейшим и важнейшим способом познания” является исключительно “непосредственное слияние” с предметом познания (бытием, Абсолютом, Богом)[189].
В этом контексте юношеский трактат Соловьева Sophie можно считать не только отражением прочитанной и не до конца осмысленной литературы, а также порой ошибочных гностических «иллюминаций» (спиритизм и медиумизм молодого философа), но страстной, торопливой и еще неумелой попыткой переложения на язык дискурсивного опыта, для которого непреодолимой трудностью всегда было нахождение адекватного способа языковой коммуникации (Платон в своем знаменитом VII Письме прямо утверждал, что “эти вещи не выразить словами”[190]). И с какой бы осторожностью ни подходили мы к источникам мистики Соловьева, какой бы скептицизм ни выражали по этому поводу, какие бы упреки ни предъявляли к этим источникам, в том числе упреки морального и религиозного характера, несомненно, что Соловьев не был мистическим “спекулянтом” не был “мистицистом” как назвал это С. Булгаков, дезавуируя недоброжелательство его критиков. Напротив, он был подлинным “мистиком” и имел, как подчеркивает этот православный богослов, свой личный, особенный, подлинный мистическии опыт[191].
Этот факт не могут перечеркнуть ни “рационализм” Соловьева, ни его склонность к дедуктивному методу Гегеля, ни характерное для него – что особенно подчеркивает Е. Трубецкой, а также М. Здзеховский – не всегда удачное сочетание мистицизма и рационализма. Это особенно очевидно, если считать, как Мережковский, – что Соловьев был рационалистом, как и всякий гностик[192]. Сам Соловьев, отдавая себе отчет в многообразии своих духовных связей и “родства по выбору”, подчеркивал, однако, свою независимость как от философии Шеллинга, так и от философской мысли автора Феноменологии духа, или современного “гностика” par excellence. Согласно оценке Соловьева, Гегель является «гностиком», вместе с тем он является «философом» par excellence, что означает par excellence рационалистом^ чему сам себя Соловьев наверняка бы не отнес, не причислил.
«Гегель, – пишет Соловьев в своей статье для Энциклопедического словаря, – может быть назван философом по преимуществу, ибо из всех философов т о л ь к о для него одного философия была всё [разрядка автора. – Я.К.]. У других мыслителей она есть старание постигнуть смысл сущего; у Гегеля, напротив, само сущее старается стать философией, превратиться в чистое мышление. Прочие философы подчиняли свое умозрение независимому от него объекту; для одних этот объект был Бог, для других – природа. Для Гегеля, напротив, сам Бог был лишь философствующий ум, который только в совершенной философии достигает и своего собственного абсолютного совершенства; на природу же в ее эмпирических явлениях Гегель смотрел как на чешую, которую сбрасывает в своем движении змея абсолютной диалектики”[193].
Если же принять во внимание, что познавательный идеал Соловьева был идеалом целостного, “цельного” знания (“свободная теософия” как синтез мистики, философии и науки), то можно сказать, что Соловьев был, в принятом значении этого слова, не столько “рационалистом” сколько “трансрационалистом” Prius философии Соловьева – подобно тому, как и у Платона, – образует его собственный мистический и религиозный опыт, в то время как у Гегеля это то, что Соловьев и критиковал, и отбрасывал как “отвлеченное знание” начиная со своей магистерской работы Кризис западной философии и далее вплоть до великолепного, хотя и неоконченного труда Философские основы цельного знания, до докторской работы Критика отвлеченных основ и, наконец, до последнего, также неоконченного трактата Теоретическая философия. Самым существенным различием в подходах Гегеля и Соловьева представляется то, что, как пишет об этом Ф. Степун, в рациональных своих построениях Соловьев отнюдь не пробивается навстречу Абсолютному, а всего только рассказывает то, что он изначально знает об Абсолютном. Для Гегеля Абсолютное есть последнее, высшее задание философской мысли. Для Соловьева оно есть первичная, религиозная данность. Вся система Соловьева есть всего лишь логическая транскрипция его религиозно-мистического опыта[194]. Также и Дж. Л. Клайн в своем исследовании Гегель и Соловьев, хотя, с одной стороны, утверждает, что “философскую систему Соловьева можно назвать неогегельянской”, однако, с другой стороны, не может возражать против того, что “универсальный синтез” Соловьева проявляется как феномен, отличный от гегелевского “снятия” (Aufhebung), для которого спекулятивная философия или абсолютное знание доминируют над религией, философией и наукой[195]. Э. Радлов считал противоречия между “мистицизмом и рационализмом” в философии Соловьева мнимыми и объяснял их установкой самого Соловьева, который признавал “их [философии и религии] тождество по существу и различие по форме”[196]. В устах Соловьева, когда он называл Аристотеля или Гегеля “рационалистами”, это слово не имело в данном случае никакого положительного значения. Об этом следует помнить всем, кто сравнивает Соловьева с Гегелем или даже пишет о Соловьеве как о “российском Гегеле”[197].
При исследовании источников софиологии Соловьева можно указать также на еще один, пожалуй, менее всего явный, однако все же имеющий определенную важность: речь идет о такой разновидности софиологического (софийного) сознания, которая является “скрытым” сознанием, всегда имевшим место в традиции как Запада, так и Востока (мистика, поэзия, искусство); его, согласно психологической теории К.Г. Юнга, следовало бы считать элементом не только индивидуального, но и “коллективного (группового) сознания”[198]. Наряду с другими источниками следовало бы вспомнить и мотив Вечной Женственности в Фаусте Гёте. (“Это вечно-женственное возводит нас ввысь, [к небу]”, в немецком оригинале: “Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan“.)[199]
Выражением этого сознания на Востоке является иконопись, которая в православном богословии имеет значение, неизвестное Западу и трудно постигаемое. Кроме своих теологических и эстетических аспектов она собственно является одним из “доводов”… существования Бога. Имея это в виду П. Флоренский писал в своем трактате “Иконостас”, что из всех философских доводов существования Бога наиболее убедительно звучит тот, о котором даже не вспоминают в учебниках. Его можно выразить примерно так: “Есть Троица Рублева, значит, есть Бог”. Если логику автора Столпа и опоры истины распространить на софиологическую идею Соловьева, можно сделать отсюда аналогичный вывод: “Есть икона Софии, значит, София существует”[200].
Софиология Соловьева не является отвлеченной, абстрактной (от лат. abstraho – отрываю), “оторванной” от жизни спекуляцией; наряду с аспектами чисто теологическим и религиозными женское, “софийное” “невестино первоначало” присутствовало и проявлялось в древнерусской культурной традиции[201], и Соловьев просто “инстинктивно” (Е. Трубецкой) склонялся к нему. Иконологический аспект как выражение “скрытого сознания Православия” (Ежи Новосельский) соединяет в софиологии Соловьева источники и влияния нефилософские с собственно философскими. Философское подтверждение учения о Софии Соловьев нашел в Идее Человечества О. Конта, а ее иконографическое выражение он видел в новгородской иконе Софии – Премудрости Божьей, о которой он писал, между прочим, в упомянутой выше работе (лекции), посвященной Конту. Интуиции, выражением которой в русском православном народе от веков было почитание Софии как “живой личности”, как Воплощения Бога в мировой Церкви, Конт придал новое измерение, представив ее конечной Целью Человечества, “Великим существом” {Le Grand Etre), Целью, к достижению которой стремится все Человечество в процессе своего прогрессивного развития. София – это Вселенская Церковь как цель человечества, как идеальное, соединившееся с Богом сообщество людей. Соловьев утверждал, что французский позитивист не создал и не открыл никакой новой религиозной теологической истины, которая была бы неизвестна Церкви и христианскому сознанию; он только подтвердил ту истину, которая веками жила в религиозности русского народа, в Восточной (Православной) Церкви, в православной духовности. Поэтому в Предисловии к своему сочинению История и будущность теократии Соловьев мог написать, что с точки зрения надрелигиозного всеобщего сознания, одинаково доступного как философскому дискурсу, так и мистической интуиции, “Церковь вселенская явится нам уже не как мертвый истукан и не как одушевленное, но бессознательное тело, а как существо само-сознательное, нравственно свободное, действующее само для своего осуществления, – как истинная подруга Божия, как творение, полным и совершенным единением соединенное с Божественным, всецело его вместившее в себя, – одним словом, как та София, Премудрость Божия, которой наши предки по удивительному пророческому чувству строили алтари и храмы, сами еще не зная, кто она[202].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева"
Книги похожие на "Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ян Красицкий - Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева"
Отзывы читателей о книге "Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева", комментарии и мнения людей о произведении.