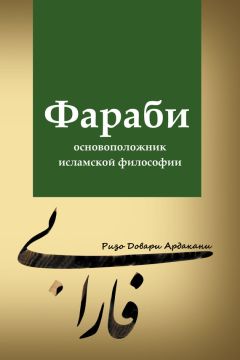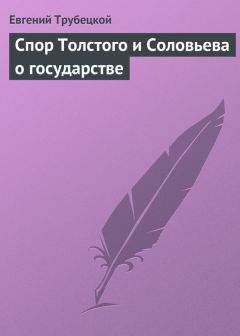Ян Красицкий - Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева"
Описание и краткое содержание "Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева" читать бесплатно онлайн.
Современный книжный рынок, казалось бы, насыщен переизданиями сочинений Владимира Соловьева и трудами о нем, однако книга польского философа «Бог, человек и зло», изданная в Польше в 2003 году и ныне впервые предлагаемая читателю в переводе на русский язык, представляет собой совершенно новое и необычное явление в историографии российской философии. Здесь обретает реальные черты та «икона Соловьева», которая существует в мировой культуре и содержит в себе огромный позитивный потенциал признания русского творческого вклада в мировую цивилизацию, сближения и взаимопонимания разных культур, в частности, в очень сложном польско-российском духовном пограничье.
Идея учения о Душе мира и вообще всей софиологии Соловьева, первой пробой письменного изложения которой был трактат Sophie, формировалась как под влиянием духовной атмосферы, возобладавшей среди части русской интеллигенции во второй половине XIX века как своего рода реакция (оппозиция и протест) на всесильные в 1860-х годах материализм и позитивизм, так и под воздействием собственного опыта и личных “мистических“, “софийных“ переживаний[172]. Явно выявляется также связь софиологии Соловьева с традициями русского иллюминизма и масонства XVIII века и другими духовными течениями, включая “библейские книги Соломона“[173], на которые он не раз ссылается и которые являются основным источником его вдохновения, его теософических и гностических инспираций, так же как литература из области оккультизма и каббалистики[174].
Что касается “софийного” опыта Соловьева, то для развития его философии, как нам представляется, важнейшее значение имеет не сам по себе этот опыт, но – независимо от того, в какой бы исследовательской перспективе ни разворачивалась его интерпретация, – тот факт, что он сам относился к нему очень серьезно, о чем свидетельствует если не сама его философия, то его поэзия. Достойно внимания, например, то, что в конце поэмы Три свидания помещено примечание, где философ говорит о них как о “самом важном из всего, что случилось в его жизни” а само это произведение называет своей “маленькой автобиографией”[175]. Говоря о мистике Соловьева, мы имеем в виду, конечно, не эксперименты в области спиритизма и оккультизма юного адепта тайных наук, странствующего, подобно ренессансному подмастерью, в погоне за тайными знаниями по всей Европе (с главной остановкой на пути этих странствий в лондонском Британском музее), не разного рода эзотерические опыты и тому подобное[176], но те три видения Софии – Премудрости Божьей, свидетельства и упоминания о которых находятся в поэме Три свидания[177]. Все творчество Соловьева этого периода отмечено печатью теософии, разумеется, как подчеркивает это Г. Шолем, “в старом, добром, всеобще принятом смысле этого слова” иначе говоря, как пишет этот знаток иудаизма, в том значении, которое это слово имело “до того, как с его помощью начали обозначать современную псевдорелигию[178]. В этом значении, как заметил русский исследователь С. Хоружий, не только софийная мистика Соловьева имеет ярко выраженный теософский характер, но весь его философский “дискурс” этого периода разворачивается в рамках дискурса, характерного для теософии[179].
Спор о характере мистических, “софийных” переживаний Соловьева не закончен, вопрос остается открытым, и мнения здесь разделились – от апологетики до церковной “анафемы”[180], от некритического их принятия до попыток уменьшить, снизить значение “мистики” Соловьева, свести ее к одному лишь ощущению “Всеединства” (А. Лосев)[181] и до недавно появившегося, можно сказать, шокирующего в сравнении с прежними анализами, выдержанного в духе постмодернистской “деконструкции” аналитического исследования С.С. Хоружего, указавшего на неоднозначность мистики Соловьева, на ее замаскированный эротический фон, происходящий из отделения строя мистики от аскезы, “подавления” сферы инстинктов и влечений и т. п. В сопоставлении с апологетическими интерпретациями, лишенными тени критики, та позиция, какую занял в этом вопросе, к примеру, С. Булгаков, может сегодня, в эпоху всеобщей деструкции и “деконструкции” показаться несколько наивной. Но это не значит ошибочной. Булгаков, обращаясь к образу Алеши из Братьев Карамазовых и пережитой им “минуте” единения со всем миром, писал, что Соловьев был не только “философом Души мира” но так же, как Алеша, “пережил “такую минуту”, познал ее в своем мистическом опыте” Можно, конечно, не верить в истинность этих переживаний, добавляет богослов, или объяснять их на “медицинской” основе, но бесспорным для Булгакова оставался тот факт, что мистические переживания, связанные с Душой мира, представляли собой “наиболее интимный, и как раз поэтому наиболее существенный, основной” момент духовной жизни философа, что Соловьев “знал, о чем говорит, философствуя о Душе мира: была она для него не только рациональной идеей, но и ощутимой правдой”[182]. Таким же образом, по мнению Мочульского, все религиозно-философское творчество Соловьева, “как из зерна” вырастает из его первоначальной мистическо-софийной интуиции. Считать ее, как полагает этот российский исследователь, “соблазном и субъективной иллюзией” означало бы в то же время отбросить всю философскую систему Соловьева, ибо только в свете видений Подруги Вечной, указывает Мочульский, и раскрывается смысл его учения о “положительном всеединстве” о Софии и о Богочеловечестве, становится понятной его идея “свободной теократии” и проповедь соединения Церквей[183].
Неразрешенным остается также вопрос об “ортодоксальности” этих видений. Флоровский, например, пишет, что личный, мистический опыт Соловьева был по сути своей не церковным, он имел характер явного сектантского отклонения; его видения Вечной Женственности как таковые, пишет этот православный теолог, не удается согласовать с опытом и учением Церкви.
“Не напрасно, – читаем мы далее, – сам Соловьев в период написания своих Чтений о Богочеловечестве “настоящими людьми” называл Парацельса, Бёме, Сведенборга, находил подтверждение своего опыта у Пордейджа, Арнольда и Гихтеля. Соловьев остается мыслителем, корни мировоззрения которого глубоко уходят в “духовно-натуралистическую” мистику Запада, в “теософизм” Якоба Бёме, в котором еще Шеллинг увидел рационалиста”[184].
Как бы ни подходить к этой проблеме, ясно, что в основе философии Соловьева лежит – так или иначе определяемый – “мистическо-религиозный” опыт (М. Георге), комплекс явлений, которые несомненно заслуживают внимания исследователя, а никак не банальной и даже тривиальной их трактовки, и вне контекста этих явлений философию Соловьева трудно понять[185]. Шутливый тон описания этих переживаний (мистических видений), характерный для поэмы Три свидания, не должен, как мы на это уже указывали выше, ввести исследователя в заблуждение. Он только подтверждает выведенное из другого контекста правило (К. Мочульский), свидетельствующее, что не всегда о том, что было самым важным в его жизни, Соловьев писал серьезно, и это правило подтверждается материалами и характером как его демонической, так и софийной мистики. Создается также впечатление, что для инициирования этих переживаний литературные источники – тексты теософических авторов (Г. Гихтель, Г. Арнольд, Дж. Пордейдж) и даже “настоящих людей” (Парацельса, Бёме, Сведенборга, о чем сам он писал в письме графине Софье Толстой от 27 апреля 1877 г.[186]) – не имели решающего значения. Об отношении Соловьева к авторитетам хорошо сказал С.К. Маковский, который, приведя целый ряд имен предшественников его мысли, подчеркивает, что “ни на одном из перечисленных учителей Соловьев не остановился […]” Его предшественники “нужны были ему лишь постольку, поскольку они были нужны ему в подтверждение его софиологии, этики, эстетики и, наконец, эсхатологии”[187]. Соловьев – что подтверждается в упомянутом выше письме – не нашел у привлекаемых им авторов ничего, чего не знал бы сам из собственного опыта, их тексты служили для него не столько источником непосредственного вдохновения и открытий, сколько чем-то вроде пробного камня, на котором можно было проверить достоверность его собственных “софийных” переживаний. Свести эти переживания на нет, трактовать их в духе банального отрицания мы не имеем права хотя бы уже в силу того, что Соловьев стал основоположником – создателем характерного феномена русской религиозной философии, известного под именами “софианство”, “софиология”, “софиологическая школа” и в этом значении софийный опыт Соловьева, как отмечает российская исследовательница, в известной мере определил дальнейшие пути развития русской философии. “Если бы, – пишет она, – Соловьев проигнорировал видения [Софии] или осмыслил их по-другому, дав духовной Сущности, явившейся ему, другое имя, развитие русской философии в XX в., наверное, было бы иным! Однако явившегося ему Ангела Соловьев опознал как Софию – Премудрость Божию, о которой он читал у Бёме и у других мистиков Запада, о которой учил гностик Валентин”[188].
Следует также иметь в виду, что Соловьев отделял “мистику”, то есть сферу мистического опыта, если можно так сказать, ортопрактику, от “мистицизма” как науки, принявшей за основу своей методологии то положение, что “первейшим и важнейшим способом познания” является исключительно “непосредственное слияние” с предметом познания (бытием, Абсолютом, Богом)[189].
В этом контексте юношеский трактат Соловьева Sophie можно считать не только отражением прочитанной и не до конца осмысленной литературы, а также порой ошибочных гностических «иллюминаций» (спиритизм и медиумизм молодого философа), но страстной, торопливой и еще неумелой попыткой переложения на язык дискурсивного опыта, для которого непреодолимой трудностью всегда было нахождение адекватного способа языковой коммуникации (Платон в своем знаменитом VII Письме прямо утверждал, что “эти вещи не выразить словами”[190]). И с какой бы осторожностью ни подходили мы к источникам мистики Соловьева, какой бы скептицизм ни выражали по этому поводу, какие бы упреки ни предъявляли к этим источникам, в том числе упреки морального и религиозного характера, несомненно, что Соловьев не был мистическим “спекулянтом” не был “мистицистом” как назвал это С. Булгаков, дезавуируя недоброжелательство его критиков. Напротив, он был подлинным “мистиком” и имел, как подчеркивает этот православный богослов, свой личный, особенный, подлинный мистическии опыт[191].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева"
Книги похожие на "Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ян Красицкий - Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева"
Отзывы читателей о книге "Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева", комментарии и мнения людей о произведении.