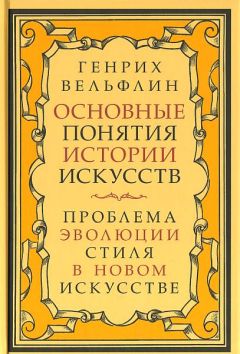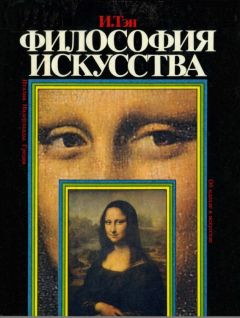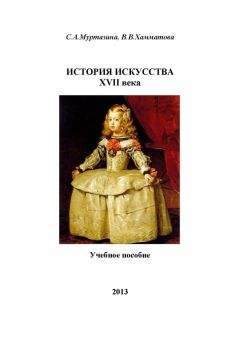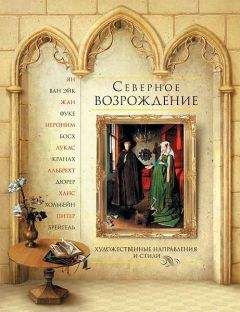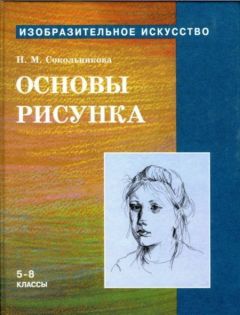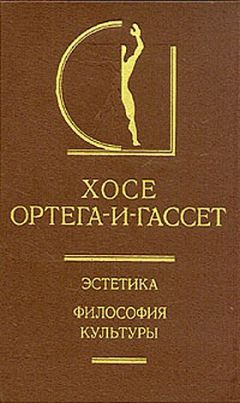Генрих Вёльфлин - Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение"
Описание и краткое содержание "Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение" читать бесплатно онлайн.
Генрих Вёльфлин по праву считается одним из самых известных и авторитетных историков искусства, основоположником формально-стилистического метода в искусствознании, успешно применяемом в настоящее время. Его капитальный труд «Классическое искусство. Введение в итальянское Возрождение» впервые был издан в Мюнхене в 1899 году, выдержал много переизданий и переведен на все европейские языки. Первый перевод на русский язык был выполнен в 1912 году. Предлагаемый новый перевод более соответствует немецкому оригиналу и состоянию современной искусствоведческой науки. Текст сопровожден почти 200 репродукциями живописных и скульптурных произведений искусства, упоминаемых автором.
Книга адресуется всем читателям, желающим глубже понять особенности творчества великих мастеров итальянского Возрождения, а также студентам и преподавателям искусствоведческих отделений вузов.
Издание дополненное Айрис-Пресс.
В оформлении книги использованы репродукции произведений Рафаэля Санти: «Донна Велата», «Чудесный улов», «Паси овец моих».
Щедрой рукой рассыпает XV столетие свои богатства по всему телу. Если тут нет складок, будет шлица, пройма, буф или узор на ткани, — словом, нечто, привлекающие к себе внимание. Кажется немыслимым, чтобы хотя бы на один момент глаз оказался где-нибудь незанятым.
В каком направлении воздействуют на драпировку интересы XVI столетия, мы уже указывали. Достаточно увидеть женщин с Леонардовой «Мадонны со св. Анной», «Святого семейства» [«Мадонна Дони»] Микеланджело или «Мадонны Альба» Рафаэля (рис. 17, 24, 59), чтобы понять, что имел в виду новый стиль. Самое главное: одежда не должна заслонять собой скульптурный мотив[170]. Складки ставятся на службу телу, они не должны навязывать себя взгляду как нечто самостоятельное, и даже у Андреа дель Сарто, который с охотой предоставляет шуршащим тканям искриться в живописных рефракциях, нигде невозможно отделить тканевый элемент от движения фигуры, в то время как в XV в. он так часто предъявляет претензии на самостоятельный интерес.
Если в случае драпировок складки можно накладывать произвольно, и здесь вполне понятно, какими путями — в направлении от многого к немногому, к крупным, мощным, направляющим линиям — продвигается новый вкус, то и такие вполне заданные от природы образования, как лицо и тело, также оказались в не меньшей степени подвержены преобразующей воле нового стиля.
В XV в. у лиц общее то, что основное ударение в них лежит на блестящих глазах. Рядом с очень легкими тенями темный зрачок (и радужная оболочка) приобретают такое значение, что на лице первым делом становятся видны глаза, и, возможно, таково же и нормальное природное впечатление. XVI столетие подавляет это воздействие, оно приглушает блеск в глазах: существенное слово должен произнести костяк, сама структура. Дабы придать больше энергии форме, углубляются тени. Не будучи распылены на небольшие фрагменты, но пребывая крупными слитными объемами, они выполняют задачу по связыванию, упорядочению, расчленению. То, что прежде распадалось как чистого вида единичности, ныне собирается воедино. Отыскиваются простые линии, основательные направления. Все малозначительное перекрывается крупным. Ничто единичное не должно бросаться в глаза. Для создания впечатления, в том числе и с удаления, должны выступать основные формы.
Трудно говорить о таких материях, не прибегая к показу, но даже показ окажется безрезультатным, если ему не будет отвечать собственный опыт. Вместо всех частных разработок да будет нам позволено ограничиться здесь указанием на параллельные портреты Перуджино и Рафаэля, воспроизведенные на репродукциях (рис. 78, 77). Зритель убедится в том, как воспроизводит свои тени Перуджино — малыми, незначительными по силе дозами со скрупулезной их деталировкой, увидит, что он оперирует с ними до того осторожно, словно они — необходимое зло. Между тем Рафаэль, напротив, усиленно привлекает в портрет затемнения — не только для того, чтобы придать выпуклости рельефу, но прежде всего в качестве средства объединить изображение на немногих крупных формах. Глазницы и нос оказываются обобщенными в одной детали, и очень четким и простым рядом со спокойно смыкающимися воедино теневыми объемами показывается глаз. Чинквеченто всегда подчеркивало обращенные к носу уголки глаз, это момент определяющей значимости для лица — узловая точка, куда сходятся многие нити выражения лица.
Тайна большого стиля заключается в способности немногим сказать многое.
Мы совершенно отказываемся прослеживать новые представления в области их соотношения с телом в целом, как и от попытки дать себе детальный отчет об упрощении изображения тела, идущем в направлении показа наиболее существенного. Решают здесь не большие познания в анатомии, но видение фигуры в крупных ее формах. То, как воспринимается теперь тело в его суставах, как маркируются узловые точки стана, предполагает наличие независимого от анатомического многознайства чувства органического членения.
В архитектуре развитие идет теми же путями, для чего нами будет приведен лишь один пример: XV столетие не видело никакой беды в том, чтобы облом, не прерываясь, обегал нишу с аркой наверху; теперь же здесь требуют карниза, на который бы опирались пяты арки, т. е. важная точка, в которой присоединяется арка, должна быть отчетливо подчеркнута. Той же ясности требуют и от расчлененности тела. Шея сидит теперь на туловище не так, как прежде. Части отделяются одна от другой с большей определенностью, но одновременно приобретает убедительное единство тело как целое. Художники стараются овладеть местами сочленения, имеющими решающий вес; они научаются понимать в античности то, что стояло у них перед глазами уже с таких давних пор, и, если в конце концов все приходит к чисто формальному конструированию тел, ответственность за это не следует возлагать на великих мастеров.
И вообще речь теперь идет не об изображении человека в его успокоенной форме, но также, причем во все большей мере, и о его движении, о его телесных и духовных функциях. В области физического движения и выражения лица вырисовались не поддающиеся исчислению множества совершенно новых задач. Все трактовки стоящих, идущих, поднимающих или несущих груз, бегущих или летящих фигур, точно так же как и выражения душевных движений, следовало переработать в согласии с новыми требованиями. Превзойти кватроченто по всем статьям в части проясненности и возросшей силы впечатления представлялось возможным и необходимым. Что до движений обнаженного тела, наибольшую подготовительную работу провел здесь Синьорелли: независимо от скрупулезно точного изучения частностей, которым занимались флорентийцы, он с большей основательностью пришел к тому, что важно для глаза и чего требует представление предмета. Однако стоит рядом с ним поместить Микеланджело, как станет очевидно, что при всем своем искусстве весь он — лишь намек и предчувствие. Микеланджело первым отыскал для изображения мускульных функций такие ракурсы, что принуждают зрителя сопереживать происходящему. Он получает в том, что им изображается, столь небывалые воздействия, как будто первым за это взялся. После того, как утраченным оказался картон с «Купающимися солдатами», ряд сидящих рабов на своде Сикстинской капеллы (рис. 40–44) следовало бы назвать подлинной высшей школой, «Gradus ad Parnassum»[171]. Чтобы понять значение этой работы, достаточно обратить внимание на то, как нарисованы руки. Там, где кватроченто отыскивало для показа наилегчайшие, почти неощутимые возможности, например, в случае изображения локтей в профиль, и воспроизводило эту схему из поколения в поколение, нашелся человек, разом разломавший все рамки и давший такие рисунки членов тела, которые должны были создать в зрителе совершенно новые центры восприятия. Взятые не по самому широкому измерению, оконтуренные не косным параллелизмом, мощные тела этих «рабов» наделены жизнью, превосходящей впечатление, создаваемое самой природой. Действие это определяется выгибами и прогибами линий, взбуханием и съеживанием форм. О перспективе мы еще поговорим.
179. Пьеро ди Козимо. Марс и Венера. БерлинВеликим учителем для всех явился Микеланджело, показавший, какие именно аспекты красноречивы при показе. Чтобы проиллюстрировать это на одном простом примере, укажем две женские фигуры с ношей — Гирландайо и Рафаэля (рис. 166, 167): когда ясно дашь себе отчет в том, насколько левая опущенная рука с грузом у Рафаэля превосходит ту же руку в случае Гирландайо, обретаешь точку отсчета для того, чтобы судить о различиях в рисунке XV и XVI вв.[172].
В период, когда достоинство телесных членов было в полной мере оценено, должна была возникнуть также потребность сделать всех их видимыми, в результате чего и происходило это обнажение рук и ног, не останавливавшееся даже перед священными фигурами. Засучивание рукавов у святых-мужчин — нечто вполне заурядное: дело в потребности видеть локтевой сустав, однако Микеланджело идет дальше и обнажает до плечевого сустава даже саму Марию («Святое семейство» [ «Мадонна Дони»]). И если другие не последовали здесь за ним, то по крайней мере у ангелов обнажение места присоединения руки к туловищу вошло в обыкновение.
Что до присущего XV столетию недостаточного понимания органического расчленения фигуры, в качестве характернейшего примера мы можем привести разработку набедренной повязки у Христа или Себастьяна. Эта деталь одеяния становится невыносимой тогда, когда она скрывает под собой линии перехода от туловища к конечностям. Кажется, Боттичелли с Вероккьо не испытывали никаких сомнений, расчленяя тело таким манером, между тем как в XVI в. набедренная повязка располагается так, чтобы никто не усомнился в ясности заложенных здесь структурных моментов для самого художника, чтобы обнаруживалось его желание сохранить явление во всей его чистоте. Нет ничего удивительного в том, что Перуджино с его архитектоническим мышлением пришел к этому решению уже довольно рано.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение"
Книги похожие на "Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Генрих Вёльфлин - Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение"
Отзывы читателей о книге "Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение", комментарии и мнения людей о произведении.