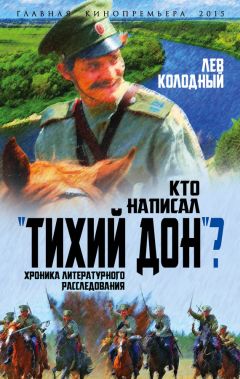Семен Экштут - Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного
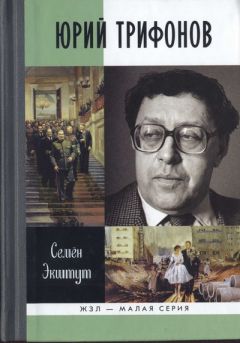
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного"
Описание и краткое содержание "Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного" читать бесплатно онлайн.
Юрий Трифонов (1925–1981), популярнейший писатель эпохи позднего социализма, родоначальник городской/московской прозы как литературного направления, до сих пор остаётся «недочитанным», полагает автор книги. «Я пишу о смерти („Обмен“) — мне говорят, что я пишу о быте; пишу о любви („Долгое прощание“) — говорят, что тоже о быте; пишу о распаде семьи („Предварительные итоги“) — опять слышу про быт; пишу о борьбе человека со смертельным горем („Другая жизнь“) — вновь говорят про быт», — сетовал Трифонов. Вместе с тем и в самой его судьбе, и в произведениях отразились как провалы, так и вершины великого советского эксперимента по справедливому переустройству жизни. Сын репрессированных родителей — и, несмотря на это, выпускник престижного Литературного института, уже за дипломную повесть «Студенты» получивший Сталинскую премию; связанный по первому браку с «подругой» Берии, — и позже, минуя «железный занавес», объехавший полмира как спортивный журналист; преуспевающий литератор — и не дождавшийся издания отдельной книгой своего главного произведения «Дом на набережной»… Семён Экштут, историк, доктор философских наук, попытался взглянуть на писателя в контексте «большого исторического времени» и обнаружил масштабно мыслящего философа, предсказавшего в творчестве причины, по которым великий эксперимент не удался. Многие суждения С. Экштута, как всегда, неожиданны, полемичны, провокативны — с установкой на споры, — но этим и интересны, а может быть, и полезны, о чём судить, конечно, читателю.
знак информационной продукции 16+
«Я вчера думала: Россия заслужила наказание, и надо, чтобы „тяжкий млат“ выковал в ней настоящую любовь к родине, к своей земле. 100 лет, а может, и больше интеллигенция поносила свою страну, своё правительство, получила в цари Мандукуса[82] и начала униженно, гиперболически преклоняться, возносить фимиамы, думая только о шкуре своей. Думать тошно об апофеозе „Как закалялась сталь“ в театре Радлова с бюстом Сталина в центре действия. <…>
Теперь Немезида.
Россия не может погибнуть, но она должна понести наказание, пока не создаст изнутри свой прочный фашизм» (I, 263–264).
Последняя строчка требует пояснения. Любовь Васильевна ратовала за национально ориентированную сильную власть и всякий раз с нескрываемым неодобрением замечала присутствие инородцев — грузин и особенно евреев — во властных структурах и в карательных органах. Именно засильем инородцев во главе и в рядах карательных органах автор дневника склонна была объяснять небывалый размах необоснованных репрессий в годы «большого террора». Забегая вперёд скажем, что после смерти Сталина и ареста Берии, когда массовые репрессии отошли в прошлое, Шапорина одобрительно заметила: «Слава Тебе, Господи, это прекратилось, и стало гораздо легче дышать. Во главе правительства стоят русские люди» (II, 276). Пройдёт ещё несколько лет, и Любовь Васильевна с нескрываемым раздражением напишет, что в ЦК партии есть «какие-то восточные человеки» (II, 363). Можно привести множество цитат, подтверждающих её бытовой антисемитизм: она охотно фиксировала в своём дневнике самые нелепые слухи, касающиеся евреев. Тем не менее Любовь Васильевна ещё более беспощадно смотрела и на русский народ. За несколько лет до начала «большого террора», когда времена ещё были относительно «вегетарианские», хотя казни не прекращались со времён Гражданской войны, 22 мая 1930 года Шапорина занесла в дневник очень горькие размышления о русском народе: «У нас всякий прёт (не идёт, а всегда прёт) телом на тело, не ощущая всего ужаса этого. Наша толпа — толпа дикарей, стоящих на самой низкой степени развития. <…> У нас вообще ничего не ощущают, кроме физиологических потребностей, а насчёт греха есть пословица: не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасёшься.
Ненавижу. Ненавижу беспардонную, звериную грубость, тупость, наглость, ни на чём не основанную. Ждут поезда, вернее, момента, когда отворятся двери на платформу. И бросаются так, как будто им в спину стреляют из пулемётов. Не видят перед собой никого, готовы всё и всех смести — брбр, — и это дурачьё околпачивают, как хотят. Валяются на улицах, просто, без стеснения, без стыда. Это всё ужасно. Ужасней, чем мы думаем. С каким презреньем должен англичанин смотреть на эти валяющиеся мертвецки пьяные фигуры, на всё.
Больно. Святая Русь!» (I, 92–93).
11 октября 1930 года Любовь Васильевна, размышляя о русском народе и его правительстве и отталкиваясь от советских реалий, самостоятельно сделает вывод, давно уже сформулированный Шарлем Луи Монтескьё и графом Жозефом де Местром, вывод о том, что каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает. «Меня начинает искренно возмущать, когда во всех бедах обвиняют правительство, большевиков. Народ подлый, а не правительство, и, пожалуй, никакое другое правительство не сумело бы согнуть в такой бараний рог все звериные инстинкты. Я помню этот звериный оскал у мужика при делёжке покосов» (I, 102). Вероятно, сама Любовь Васильевна была бы крайне удивлена, обнаружив несомненное сходство собственных воспоминаний о «зверином оскале у мужика» с наблюдениями столь нелюбимого ею Ильи Григорьевича Эренбурга, сделанными им во время Гражданской войны и тогда же использованными писателем в сатирическом романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (1921). Скорбные размышления Шапориной оказываются конгениальны сатирической прозе Эренбурга. Одна из страниц романа воспринимается как развёрнутый комментарий к мысли Любови Васильевны о «звериных инстинктах»: «Наши попутчики, предпочтительно крестьяне, в промежутках между сражениями делились с нами своими взглядами на религию, крышу, культуру и на многое другое. Во всяком случае, им нельзя было отказать в своеобразии. Господа Бога, по их словам, не имелось, и выдуман он попами для треб, но церкви оставить нужно, какое же это село без храма Божьего? Ещё лучше перерезать жидов. Которые против большевиков — князья и баре, их мало ещё резали, снова придётся. Но коммунистов тоже вырезать не мешает. Главное, сжечь все города, потому что от них всё горе. Но перед этим следует добро оттуда вывезти, пригодится, крыши, к примеру, да и пиджаки или пианино. Это программа. Что касается тактики, то главное, иметь в деревне дюжину пулемётов. Посторонних никого к себе не пускать, а товарообмен заменить гораздо более разумными нападениями на поезда и реквизицией багажа пассажиров»[83].
Разумеется, Любовь Васильевна не замечает, что, фиксируя в дневнике подобные наблюдения и размышления, она, невольно забывая о Немезиде, дает аргументы Фемиде, способные на другой чаше её весов если не уравновесить, то хотя бы частично ослабить весомость обвинительных аргументов, направленных против большевизма. В итоге у читателей дневника возникает многомерное представление о советской жизни. И внимательный читатель получает уникальную возможность не только судить, но и понимать безысходную трагичность выбора, сделанного в 1917 году.
Однако вернёмся к прерванной нити рассуждений. В дни великих испытаний Отечественной войны раздумье о неотвратимом возмездии возникало не только у интеллигенции, эта мысль проникла и в среду безмолвствующего большинства. И Любовь Васильевна чутко зафиксировала этот феномен. Вечером 8 октября 1941 года в дневнике Шапориной появилась красноречивая запись. «Мотя, санитарка детского отделения: „Сами мы виноваты“. — „Чем же мы виноваты?“ — „А тем, что на всех собраниях руки поднимали“» (I, 269).
5 июля 1942 года, когда официально было объявлено о сдаче Севастополя, поэтесса Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая, третья жена Алексея Николаевича Толстого (1915–1935), сказала Любови Васильевне: «Мы все виноваты в теперешнем положении вещей. Вся страна уже много лет голодает. Помните, как на Витебском вокзале лежали повсюду голодающие украинцы. „Панычу, хлеба“, — протягивали руку. А мы, Алексей Николаевич, я, другие, в хороших шубах, сытые после попоек проходили, и нам казалось, что это где-то далеко, это нас не трогало. Теперь вся страна за это расплачивается» (I, 336).
Дневник Шапориной зафиксировал не только исчезновение людей в годы репрессий, но и постепенное исчезновение нравственных ориентиров в среде интеллигенции, исчезновение понятия греха в народе. «Великий урок грядущим поколениям всего мира: что случается, когда ненависть становится религией, или если не религией, то целью, девизом. Классовая борьба — что это такое? Оформленные, узаконенные зависть, донос, грабеж, нищета, голод, смерть. В Россию можно только верить. Тютчев это понимал. Сейчас можно только верить, но уже трудно верить. Народ дошёл до подлости, а в особенности оставшаяся в России, приспособившаяся, подхалимствующая интеллигенция. Господи, спаси и помоги» (I, 140–141). Эта запись была сделана 24 июля 1933 года, то есть уже тогда для Любови Васильевны был очевиден провал социального эксперимента, предпринятого над страной и её народом. Грядущая поступь Истории подтвердила справедливость этого вывода, и 31 мая 1947 года Шапорина написала:
«И какой страшной мне показалась моя собственная жизнь, жизнь моего бедного Васи, какой чудовищный и неудачный эксперимент. Эксперимент полуинтеллигентов» (II, 51).
Любовь Васильевна никогда не принимала ни революции, ни власти большевиков, ни официальной идеологии. Она никогда не оправдывала насилие над личностью и не стремилась казуистически истолковывать коллективизацию и массовые репрессии, объясняя их государственной необходимостью и потребностями скорейшей индустриализации страны. Впрочем, было одно «но», одно очень существенное исключение. Любовь Васильевна, чьи родные братья воевали на фронтах Русско-японской и Первой мировой, не разделяла пренебрежительного отношения к имперским ценностям, свойственного русской интеллигенции. Вот почему имперские амбиции Сталина воспринимались ею не только без осуждения, но и с явным одобрением. Она была рада, что после победы над Японией страна вновь вернула себе Дальний и Порт-Артур. В день окончания Второй мировой войны она написала: «Теперь, по слухам, огромные массы войск стягиваются к границам Турции и Ирана. Вернем себе Карс. <…> Идём по стопам царей, не сами идём, а ведёт История, наперекор всякой марксистской чепухе. Это всё для будущего поколения. Сейчас страна только искусственно нищает, искусственно голодает, а правительство без толку пользуется рабским бесплатным трудом миллионов ссыльных. <…> Живут в землянках, пухнут от голода, ходят полуголые и мрут» (I, 485). Вот так в одной записи причудливо соединялись принципиальное неприятие государственного внеэкономического принуждения и чувство глубочайшего удовлетворения от реализации имперских замыслов. Имперские амбиции самой Любови Васильевны были столь радикальны, что она мечтала о завоевании Константинополя! Однако она не видела причинно-следственной связи между удручающей нищетой народа, убожеством его повседневной жизни и впечатляющим расширением границ державы. Пройдут годы. На закате жизни Шапорину выпустят за границу. Она побывает в Швейцарии, встретится с братьями, эмигрировавшими из Советской России, и с гордостью скажет давней знакомой: «Нас в последнее царствование при Николае II били два раза, позорно разбили японцы. А вот уже сорок два года, как мы отбились от всех, кто надеялся взять Россию голыми руками, и стали сильнее, чем когда-либо». Давно уже живущая в спокойной и благополучной Швейцарии знакомая не согласилась с этими доводами. «К чему это великодержавие, — ответила она. — Ну, били, но зато как спокойно было жить» (II, 386).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного"
Книги похожие на "Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Семен Экштут - Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного"
Отзывы читателей о книге "Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного", комментарии и мнения людей о произведении.