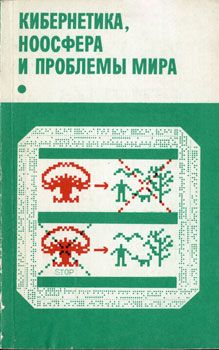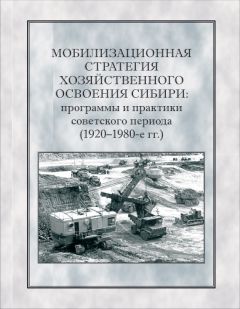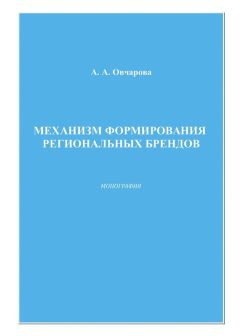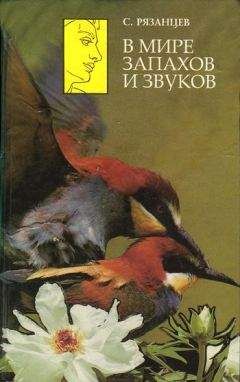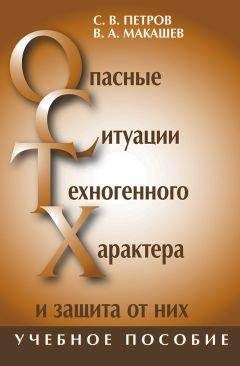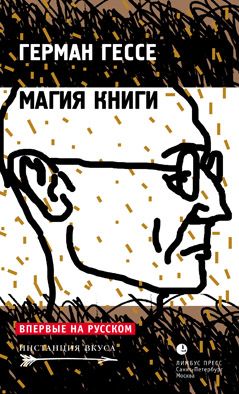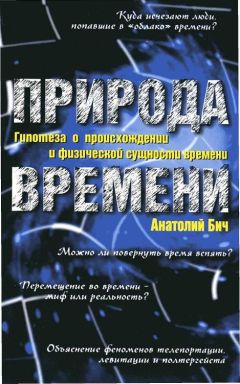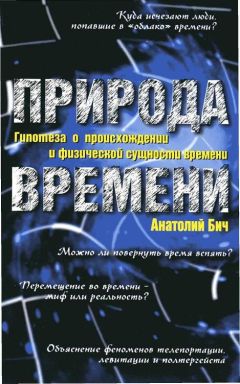А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"
Описание и краткое содержание "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков" читать бесплатно онлайн.
В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.
Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.
The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria. And this phenomenon was common to both, Russian-language literature at home and abroad, and West European literary writings.
The book is addressed to a wide range of readers, from literary critics, university lecturers and students to anyone interested in Russian and West European fiction.
Стеной волк Гессе – это и есть неоромантический герой-одиночка, чуждый каких бы то ни было сообществ или «собраний»:
«Как же не быть мне Степным волком и жалким отшельником в мире, ни одной цели которого я не разделяю, ни одна радость которого меня не волнует! – размышляет о своей судьбе Гарри Галлер. – Я долго не выдерживаю ни в театре, ни в кино, не способен читать газеты, редко читаю современные книги, и не понимаю, какой радости ищут люди на переполненных железных дорогах, в переполненных отелях, в кафе, оглашаемых душной, назойливой музыкой, в барах и варьете элегантных, роскошных городов, на всемирных выставках, на праздничных гуляньях, на лекциях для любознательных, на стадионах – всех этих радостей, которые могли бы ведь быть мне доступны и за которые тысячи других бьются, я не понимаю, не разделяю» [Г., Т.2, с.216].
В сущности, то же и у Булгакова. Так, на вопрос А. Афиногенова, почему он не посещает заседания Союза советских писателей, он ответил вполне серьезно, хотя и не без доли сарказма: «Я толпы боюсь»[128].
Иронично-весело звучит та же мысль в устах Набокова:
«Я не принадлежу ни к какому клубу или группе. Я не рыбачу, не стряпаю, не танцую, не ставлю своего знака на книгах, не подписываю коллективные декларации, не ем устриц, не напиваюсь, не хожу в церковь, не хожу к психоаналитикам, а также не участвую в демонстрациях <…> Я не без гордости считаю себя человеком, не представляющим интереса для публики. За всю свою жизнь я ни разу не напился. Я никогда не использую скабрезных словечек из школьного жаргона. Я никогда не работал в конторе или в угольной шахте. Я никогда не принадлежал к какому-либо объединению или клубу. Никакое вероисповедание или „направление“ не оказало на меня решительно никакого влияния <…> Меня не интересуют литературные группы, движения, направления и так далее <…> Я никогда не состоял ни в какой политической партии, но всегда с отвращением и презрением относился к диктатурам и полицейским государствам, как и к любой другой разновидности угнетения. То же самое относится к регламентации мышления, правительственной цензуре, расовым и религиозным преследованиям и прочему в этом роде <…> Полагаю, что мое безразличие к религии имеет ту же природу, что и моя нелюбовь к групповой деятельности» [Н1., Т.2, с.576, 578, 579, 585–586].
Таков и набоковский герой – Цинциннат Ц. Его преступление заключается в том, что он «непрозрачен» для окружающих, т. е. недоступен их пониманию, ибо неспособен жить по закону «общих мнений». Раскаяться в своей «гносеологической гнусности» [Н., Т.4, с.87], признав, что «любит то же самое, что мы с вами» [Н., Т.4, с.141], – вот условия, на которых общество согласно принять личность в свои «объятия». Так формируется центральный экзистенциальный конфликт набоковского романа: трагическое противостояние индивидуального сознания – коллективному.
Одиночество во враждебном мещанском окружении, а в конце – эшафот: этот путь предуказан любой «яркой личности» и в романе Гессе. Ибо
«человеку, способному понять Будду, имеющему представление о небесах и безднах человечества, не пристало жить в мире, где правят здравый смысл, демократия и мещанская образованность» [Г., Т.2, с.250].
Так и в «Курортнике» автор-герой, сам Герман Гессе, вдруг чувствует, что окружающая его «действительность» – этот якобы существующий мир – на самом деле всего лишь иллюзия, мнимая действительность, опутывающая [Г., Т.2, с.389] человека, а населяют этот мир «бумажные» существа. Как только герой осознает это, мир перестает давить на него и наступает освобождение [Г., Т.2, с. 174–176]. Миражные, ненастоящие люди окружают и Цинцинната Ц.
Такой же «одиночка» и булгаковский мастер: вместо того, чтобы, как все «нормальные» члены Массолита писать на заказ и «к сроку» и за это получать «творческие» путевки в Перелыгино и питаться в «У Грибоедова», пишет роман на какую-то «странную» тему – о Христе.
Все земное существование этих героев устремлено к бессмертию. Там, в вечности, в царстве «по ту сторону времени и видимости» [Г., Т.2, с.335], там их родина, туда устремляется их сердце [Г., Т.2, с.335]. А единственный «вожатый» в земной жизни – «тоска по дому» [Г., Т.2, с.336].
Для человека «с одним лишним измерением», для того, кто «требует вместо пиликанья – музыки, вместо удовольствия – радости, вместо баловства – настоящей страсти» [Г., Т.2, с.333], – для него инобытие, «потусторонность» – истинный дом и родина, «небеса обетованные».
Смелый прорыв в инобытие совершает Цинциннат Ц. Герой чувствует, что эта «темная тюрьма, в которой заключен неуемно воюющий ужас, держит <…> и теснит» его [Н., Т.4, с.101], а прекрасное, манящее «там» – «там», где «все поражает чарующей очевидностью, простотой совершенного блага», – сулит его духовной сущности освобождение. И как только Цинциннат Ц. спросил себя: «Зачем я тут?» [Н., Т.4, с.186], – бутафория материального мира рухнула, а духовный человек, сбросив физическое тело-тюрьму, направился «в ту сторону, где <…> стояли существа, подобные ему» [Н., Т.4, с.187].
Смерть здесь – освобождение духа, а бессмертие – самоочевидная истина, восхитительная в своей бездоказательности: «Как безумец полагает, что он Бог, так мы полагаем, что мы смертны» [Н., Т.4, с.47] – утверждал Набоков словами им же выдуманного философа Делаланда.
Формулируя в романе «Пнин» суть экзистенциальной двойственности, на которую обречена человеческая душа в продолжение своей земной жизни, Набоков пишет:
«Не знаю, отмечал ли уже кто-либо, что главная характеристика жизни – это отъединенность? Не облекай нас тонкая пленка плоти, мы бы погибли. Человек существует, лишь пока он отделен от своего окружения. Череп – это шлем космического скитальца. Сиди внутри, иначе погибнешь. Смерть – разоблачение, смерть – причащение. Слиться с ландшафтом – дело, может быть, и приятное, однако тут-то и конец нежному эго» [Н1., Т.3, с.22].
Для Гессе не только физическая оболочка, но и сама личность человека есть не что иное, как «тюрьма, в которой вы сидите» [Г., Т.2, с.357]. Только там, в инобытии или в предстоянии его раскрываются тайны внутренней жизни человека.
Большинство набоковских героев остаются на пороге инобытия, лишь ощущая и прозревая нечто, но не переступая грань. Исключение в этом смысле Цинциннат Ц., для которого «трансцендентная гимнастика» – занятие успокоительное и едва ли не обыденное[129]:
«Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что осталось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух. Цинциннат сперва просто наслаждался прохладой; затем, окунувшись совсем в свою тайную среду, он в ней вольно и весело – Грянул железный гром засова, и Цинциннат мгновенно оброс всем тем, что сбросил, вплоть до ермолки <…> Цинциннат, тебя освежило преступное твое упражнение» [Н., Т.4, с.61].
Гессе проникает за грань мира физического гораздо смелее, чем Набоков. «Отважиться <…> на прыжок в космос» [Г., Т.2, с.241] – для писателя значит постичь себя. Он даже представляет читателям жизнь бессмертных: Моцарта, Гете и др.
В художественном мире Набокова своеобразно проросла еще одна тема Гессе – роль животного, сексуального начала в человеке. Возможно, к одному из эпизодов романа Гессе «Нарцисс и Гольдмунд» восходит и генезис эротико-садистских сцен «Ады», где герои, Ада и Ван, для обострения своих сексуальных ощущений во время любовных игр клали между собой младшую сестру Ады Люсетту, еще девочку, и через ее посредничество передавали друг другу ласки. Аналогичная, в сущности, сцена эротики втроем – в романе Гессе «Нарцисс и Гольдмунд»: любвеобильный герой оказывается в постели с двумя девушками одновременно, причем одна из них несовершеннолетняя. У Набокова психологический рисунок этих сцен гораздо более напряженно-сексуальный, однако структурно сцены аналогичны. Динамика легко объяснима: эротическое напряжение в литературе, как и все в нашем мире, не стояло на месте, а развивалось, нарастало, все более усложняясь.
Для Гессе «двойственность» человеческой природы – дихотомия животного, воплощенного в образе Степного волка, и божественного – во многом мнима, ибо на самом деле граница между этими двумя ипостасями размыта, а сами «сущности» взаимопроникающи. И все же двойственность существует.
Когда в «Магическом театре» перед героем было поставлено первое зеркало, дающее как бы абрис его личности, он увидел
«жуткую, внутренне подвижную, внутренне кипящую и мятущуюся картину – себя самого <…>, а внутри этого Гарри – степного волка, дикого, прекрасного, но растерянно и испуганно глядящего волка, в глазах которого вспыхивали то злость, то печаль <…> Печально, печально глядел <…> текущий, наполовину сформировавшийся волк своими прекрасными дикими глазами» [Г., Т.2, с. 356–357].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"
Книги похожие на "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"
Отзывы читателей о книге "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков", комментарии и мнения людей о произведении.