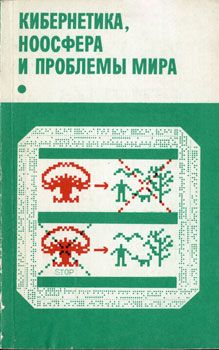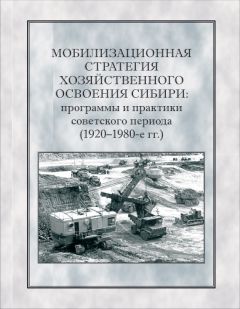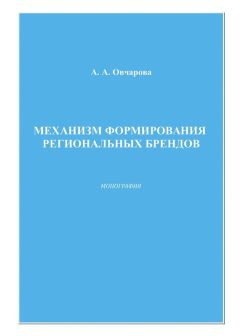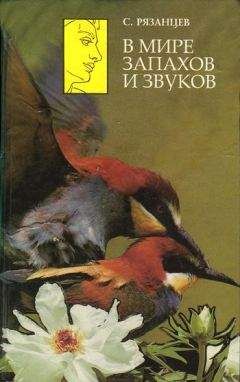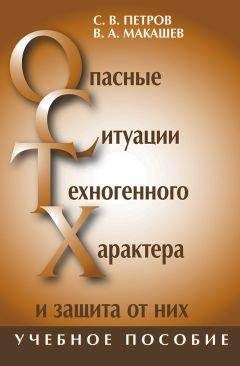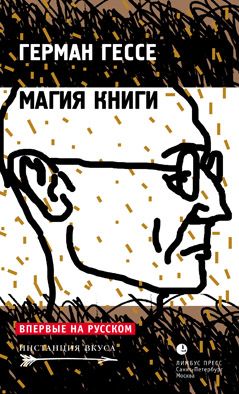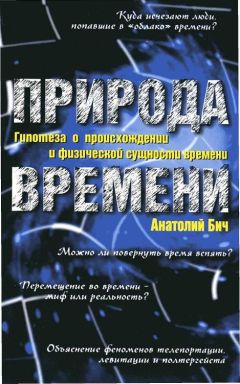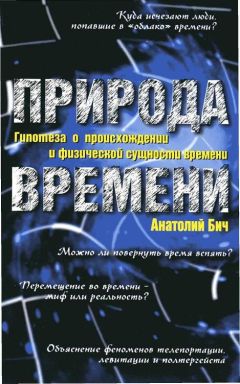А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"
Описание и краткое содержание "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков" читать бесплатно онлайн.
В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.
Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.
The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria. And this phenomenon was common to both, Russian-language literature at home and abroad, and West European literary writings.
The book is addressed to a wide range of readers, from literary critics, university lecturers and students to anyone interested in Russian and West European fiction.
Русский юмор – это, как объяснял Дон-Аминадо,
«гримаса „человека, который смеется“ и смехом этим защищается… Keepsmiling! – говорят невозмутимые англичане. И кто его знает, может, они и правы. „Старайтесь улыбаться“. Смейтесь. Благо есть над чем»[139].
Смех, «что теребит сердце и называется юмором висельников, весьма созвучным эпохе»[140], часто помогает человеку выжить.
«Смех висельника» имеет, разумеется, не только оптимистический, но и трагический аспект. XX в. – эпоха катастроф, радикальных перемен и кровавых преобразований в жизни всей России наложил печать на мироощущение личности. Смех на грани разрушительного безумия стал едва ли не отличительной чертой настроения времени. О губительности для современного человека и самого искусства всепроникающей иронии писал А. Блок:
«Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь – сродни душевным недугам и может быть названа „иронией“<…> Какая же жизнь, какое творчество, какое дело может возникнуть среди людей, больных „иронией“, древней болезнью, все более и более заразительной?»[141]
И все же два великих русских писателя XX в. – В. Набоков и М. Булгаков – реализовали не губительный, а животворный потенциал русского трагикомического юмора.
Смех не принадлежит к экзистенциальным ценностям набоковского мира. Однако в «Истреблении тиранов» писатель предложил фантастический, но тем не менее единственно эффективный способ уничтожение диктатуры – смехом. Многим он казался и продолжает казаться слишком легковесным, но другого нет: всякий иной – физический, реально действенный – ведет, как показывает история, лишь к повторению исходной ситуации, к замене одного диктатора другим.
В сущности, по тому же пути осмеяния диктатуры шел Булгаков. В «Письме Правительству СССР» от 28 марта 1930 г. он вполне сознательно и не без гордости заявил о себе как о наследнике своего учителя М.Е. Салтыкова-Щедрина: я
«СТАЛ САТИРИКОМ и как раз в то время, когда никакая настоящая (проникающая в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно немыслима» [Б., Т.5, с.447].
И хотя булгаковская сатира, как известно, в Советской России ко двору не пришлась, именно творец «Мастера и Маргариты» реализовал потенциал подлинной сатиры – мистический, а не общественно-социальной или нравоучительной, в том упрощенном понимании этого рода искусства, какое до недавнего времени господствовало в нашем литературоведении господствующим. Сама природа булгаковского творчества мистериально-буффонадна[142], а «мистериальные и буффонные краски» в каждом произведении писателя распределены по-разному[143].
«„Смех под знаком Апокалипсиса“ – следовало бы назвать трактат о Булгакове, – пишет М. Петровский, – развеселом художнике конца света»[144].
Собственно, ощущение некоей таинственной связи между комическим и инобытийным свойственно всем трем исследуемым писателям. Набоков эту связь сформулировал наиболее четко:
«разница между комической стороной вещей и их космической стороной, – писал он, – зависит от одной свистящей согласной» [Н1., Т.1, с.505].
В произведениях Гессе, Набокова, Булгакова же в особенности, сатирический гротеск органично сплавлен с напряженным лиризмом, а порой и с высокой патетикой.
В фокусе романов Гессе, Набокова и Булгакова – экзистенциально-мистические проблемы бытия. Каждый из художников создал свою версию мистического метаромана, отвечающую его индивидуальным творческим устремлениям: самопознание личности в духе философско-психологических концепции К.Г. Юнга – у Гессе[145], отношения Бога и дьявола в космическом и земном миропорядке – у Булгакова и бытие индивидуального сознания творческой личности в контексте проблем взаимодействия человека и «потусторонности» – у Набокова.
И здесь интересно проследить, как модель художественного «двоемирия» в каждом из исследуемых культовых романов XX в. трансформируется в трехчастную структуру мистического метаромана.
«Степной волк»Структурная модель художественного «двоемирия» проявляет себя вполне явственно уже с первых страниц «Записок Гарри Галлера». В рутинное, убийственно обыденное существование героя, которое даже со стороны кажется внутренним умиранием [Г., Т.2, с.198], порой врываются дуновения реальности инобытийной:
«Это было на концерте, играли прекрасную старинную музыку, и между двумя тактами пиано деревянных духовых мне вдруг снова открылась дверь в потусторонний мир, я взлетел в небеса и увидел Бога за работой, я испытал блаженную боль и больше уже ни от чего на свете не защищался, больше уже ничего не боялся на свете, всему сказал „да“, отдал свое сердце всему. Продолжалось это недолго, каких-нибудь четверть часа, но в ту ночь вернулось во сне и с тех пор нет-нет да поблескивало украдкой и в самые унылые дни, иногда я по несколько минут отчетливо это видел – как золотой божественный след, проходящий через мою жизнь: он почти всегда засыпан грязью и пылью, но вдруг опять вспыхнет золотыми искрами, и тогда кажется, что его уже нельзя потерять, а он вскоре опять пропадает» [Г., Т.2, с. 215–216].
Эти высшие мгновенья, которые возвращают человека к «душе мирозданья» [Г., Т.2, с.215], моменты единения с ней, эти «подарки» инобытия «ломали стены» физического мира [Г., Т.2, с.215], – и именно они составляют для героя смысл жизни. Мотив золотого следа (искры, нити, небосвода, литеры книг) прочерчивает повествовательную ткань романа [Г., Т.2, с.215, 216, 218, 219, 222, 336], тайно, но неизменно указывая Гарри Галлеру путь к «небесам обетованным».
Первое же упоминание в тексте о золотом божественном следе предвосхищает появление «Магического театра».
«Старая серая каменная стена» [Г., Т.2, с.257] – это, несомненно, символ той глухой преграды, которая отделяет мир земной от потустороннего. И вдруг Гарри увидел
«в середине ее красивые воротца со стрельчатым сводом <…> мне показалось, что ворота украшены венком или чем-то пестрым» [Г., Т.2, с.257].
Поначалу герою подумалось, что просто раньше он этих чудесных ворот не замечал, однако, когда позднее он вновь проходил мимо того же места, то убедился, что никаких чудесных ворот здесь не было и быть не могло:
«Темная каменная стена глядела на меня спокойно сквозь густой сумрак, замкнутая, глубоко погруженная в сон. И никаких ворот, никаких сводов, только темная, тихая стена без проема» [Г., Т.2, с.224].
Здесь уже повеяло чем-то гофмановским. Ворота явно волшебные: они появлялись и исчезали сказочно-чудесным образом – то были ворота в потусторонний мир. Все вокруг начинает мерцать реально-ирреальным светом.
И наконец, в тексте возникает волшебная надпись-афиша:
«Магический театр
Вход не для всех
– не для всех <…>
Только – для – сума – сшедших!»
[Г., Т.2, с.218].Далее начинается подготовка, а затем движение героя к вступлению в «Магический театр».
Что же такое «Магический театр»? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать один из доминантных мотивов в тексте «Степного волка» – мотив самоубийства.
Впервые это роковое ключевое слово было произнесено в «Предисловии издателя»– племянника квартирной хозяйки героя, жившего с ним по соседству. «Не нужно никаких больше рассказов и описаний, чтобы показать, что Степной волк вел жизнь самоубийцы» [Г., Т.2, с.207].
Затем самоубийцей Гарри Галлер назван в «Трактате о Степном волке», который теоретически предваряет и подготавливает вступление героя в «Магический театр».
«Тут надо заметить, – подчеркивает автор брошюры, – что неверно называть самоубийцами только тех, кто действительно кончает с собой <…> „Самоубийца“ – а Гарри был им – не обязательно должен жить в особенно тесном общении со смертью, так можно жить и самоубийцей не будучи. Но самоубийце свойственно то, что он смотрит на свое „я“ – не важно, по праву или не по праву – как на какое-то опасное, ненадежное и незащищенное порождение природы, что он кажется себе чрезвычайно незащищенным, словно стоит на узкой вершине скалы, где достаточно маленького внешнего толчка или крошечной внутренней слабости, чтобы упасть в пустоту. Судьба людей этого типа отмечена тем, что самоубийство для них – наиболее вероятный вид смерти, по крайней мере в их представлении. Причиной этого настроения <…> не является какая-то особенная нехватка жизненной силы, напротив, среди „самоубийц“ встречаются необыкновенно упорные, жадные, да и отважные натуры. Но подобно тому, как есть люди, склонные при малейшем заболевании к жару, люди, которых мы называем „самоубийцами“ и которые всегда очень впечатлительны и чувствительны, склонны при малейшем потрясении вовсю предаваться мыслям о самоубийстве <…> Сказанное нами о самоубийцах касается, конечно, лишь внешнего аспекта, это психология, а значит, область физики. С метафизической точки зрения дело выглядит иначе и гораздо яснее, ибо при таком подходе к нему „самоубийцы“ предстают нам одержимыми чувством вины за свою обособленность, предстают душами, видящими свою цель не в самоусовершенствовании и собственном совершенстве, а в саморазрушении, в возврате к матери, к Богу, к вселенной. Очень многие из этих натур совершенно не способны совершить когда-либо реальное самоубийство, потому что глубоко прониклись сознанием его греховности. Но для нас они все же самоубийцы, ибо избавление они видят в смерти, а не в жизни, и готовы пожертвовать, поступиться собой, уничтожить себя и вернуться к началу.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"
Книги похожие на "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"
Отзывы читателей о книге "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков", комментарии и мнения людей о произведении.