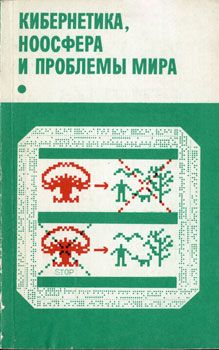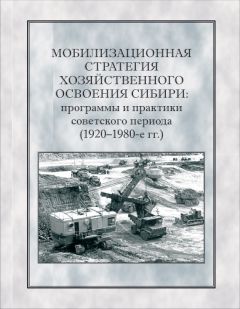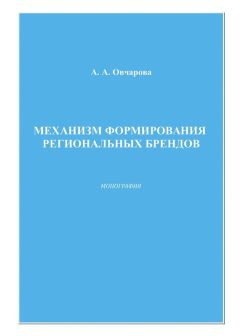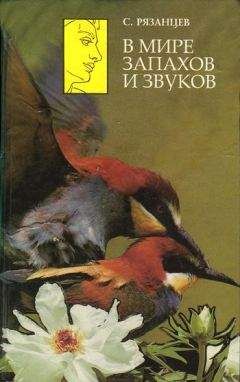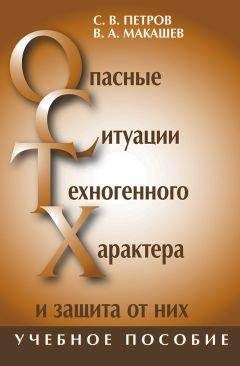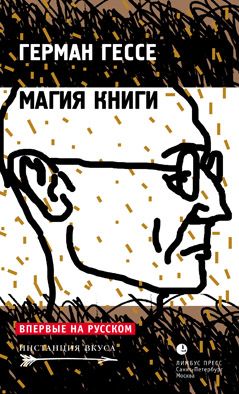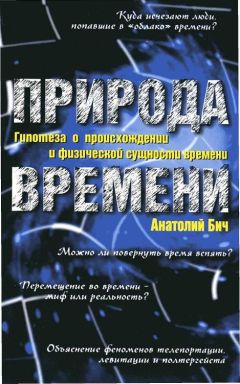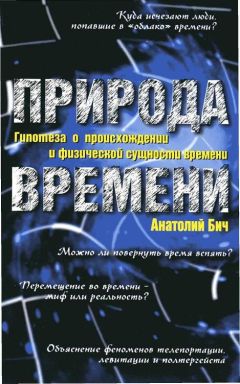А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"
Описание и краткое содержание "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков" читать бесплатно онлайн.
В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.
Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.
The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria. And this phenomenon was common to both, Russian-language literature at home and abroad, and West European literary writings.
The book is addressed to a wide range of readers, from literary critics, university lecturers and students to anyone interested in Russian and West European fiction.
Если всякая сила может <…> обернуться слабостью, то типичный самоубийца может, наоборот, превратить свою кажущуюся слабость в опору и силу, да и делает это куда как часто. Пример тому и Гарри, Степной волк. Как и для тысяч ему подобных, мысль, что он волен умереть в любую минуту, была для него не просто юношески грустной игрой фантазии, нет, в этой мысли он находил опору и утешение. Да, как во всех людях его типа, каждое потрясение, каждая боль, каждая скверная житейская ситуация сразу же пробуждали в нем желание избавиться от них с помощью смерти. Но постепенно он выработал из этой своей склонности философию, прямо-таки полезную для жизни. Интимное знакомство с мыслью, что этот запасной выход всегда открыт, давало ему силы, наделяло его любопытством к болям и невзгодам, и, когда ему приходилось весьма туго, он порой думал с жестокой радостью, с каким-то злорадством: „Любопытно поглядеть, что способен человек вынести! Ведь когда терпение дойдет до предела, мне стоит только отворить дверь, и меня поминай как звали“. Есть очень много самоубийц, которым эта мысль придает необычайную силу.
С другой стороны, всем самоубийцам знакома борьба с соблазном покончить самоубийством. Каким-то уголком души каждый знает, что самоубийство хоть и выход, но все-таки немного жалкий и незаконный запасной выход, что, в сущности, красивей и благородней быть сраженным самой жизнью, чем своей же рукой. Это знание, эта неспокойная совесть, имеющая тот же источник, что и нечистая совесть онанистов, толкает большинство „самоубийц“ на постоянную борьбу с их соблазном. Они борются <…> Степному волку тоже была знакома эта борьба, он вел ее, многократно меняя оружие. В конце концов, дожив лет до сорока семи, он напал на одну счастливую и не лишенную юмора мысль, которая часто доставляла ему радость. Он решил, что его пятидесятый день рождения будет тем днем, когда он позволит себе покончить с собой. В этот день, так он положил себе, ему будет вольно воспользоваться или не воспользоваться запасным выходом, в зависимости от настроения. И пусть с ним случится что угодно, пусть он заболеет, обеднеет, пусть на него обрушатся страдания и горе – все ограничено сроком, все может длиться максимум эти несколько лет, месяцев, дней, а их число с каждым днем становится меньше! И правда, теперь он куда легче переносил всякие неприятности, которые раньше мучили бы его сильнее и дольше, а то бы и подкосили под корень. Когда ему почему-либо приходилось особенно скверно, когда к пустоте, одиночеству и дикости его жизни прибавлялись еще какие-нибудь особые боли или потери, он мог сказать этим болям: „Погодите, еще два года, и я с вами совладаю!“ И потом любовно представлял себе, как утром, в день его пятидесятилетия, придут письма и поздравления, а он, уверенный в своей бритве, простится со всеми болями и закроет за собой дверь. Хороши тогда будут ломота в костях, грусть, головная боль и рези в желудке» [Г., Т.2, с. 233–235].
Данная в «Трактате» общетипологическая классификация «самоубийц» выглядит в высшей степени глубокомысленно и авторитетно, тем более что почти сразу «прорастает» в размышлениях самого Гарри Галлера. Герой действительно живет с мыслью о самоубийстве, она его и в самом деле успокаивает, даже дает силы продолжать обыденное существование, столь безысходно мрачное для мыслящей личности с высшими духовными запросами. Выясняется, наконец, что он действительно назначил побег из жизни на определенный день, быть может, даже на свое пятидесятилетие.
Есть, однако, в тексте брошюры одна странная, я бы сказала, комическая деталь, которая набрасывает тонкий флер юмора на все рассуждение. Здесь, явно сознательно, размыта грань между самоубийством действительным – осуществленным или хотя бы предполагаемым, психологическим и эмоциональным – и чисто теоретическим, умозрительным. Оказывается, люди, покончившие с собой, вовсе не обязательно были «самоубийцами» в смысле типажа рода человеческого, и, напротив, «самоубийцы» отнюдь не всегда кончают с собой! Зачем же понадобилось автору серьезного научного трактата размывание границ дефиниций и нарочитое затемнение вопроса?
Дело в том, что на протяжении романа так и остается непроясненным вопрос: было ли самоубийство Гарри Галлера «реальным», или это некая иллюзия? Действительно ли он покончил с собой, или произошло что-то иное? Текст «Трактата» и задает эту неопределенность.
И здесь следует обратить внимание на мотив двери, который сопутствует теме самоубийства. Сперва образ двери возникает как конкретно физический: это двери в доме, где поселился Гарри Галлер. Но уже здесь одна из вариаций образа обретает метафорический подсвет:
«…за этой стеклянной дверью, – говорит Гарри Галлер о двери на одну из площадок дома, – должен быть рай чистоты, мещанства без единой пылинки, рай порядка и боязливо-трогательной преданности маленьким привычкам и обязанностям» [Г., Т.2, с.202].
На первый взгляд может показаться, что перед нами просто уголок мещанского мирка – без всяких ассоциаций с трансцендентностью. Однако всего одно слово – «рай» – переключает эпизод в иное измерение, «потусторонность» начинает мерцать из-под материального слоя образа двери. Так, аллюзийно, зачинается метаморфоза образа. «Дверь» – образ-символ границы между миром физическим и инобытием, это «дверь в потусторонний мир». Значит, самоубийство и есть дверь в «потусторонность». Логично, что свое твердое решение покончить с собой герой завершает фразой: «Дверь была открыта» [Г., Т.2, с.256]. Но вот, с появлением Гермины, образ возникает вновь и уже в смысле противоположном:
«Вдруг открытая дверь, через которую ко мне вошла жизнь! Может быть, я снова сумею жить, может быть, опять стану человеком. Моя душа, уснувшая на холоде и почти замерзшая, вздохнула снова, сонно повела слабыми крылышками»[Г., Т.2, с.285].
Итак, две открытые двери: одна – вовне мира физического, в «потусторонность», другая – наоборот, в земную жизнь. А между этими двумя явлениями образа – «красивые воротца со стрельчатым сводом», открывавшие путь к «Магическому театру». Эту главную в романе «дверь» открывает Пабло, когда,
«улыбаясь, пошел впереди, отворил какую-то дверь, отдернул какую-то портьеру, и мы очутились в круглом, подковообразном коридоре театра, как раз посредине, и в обе стороны шел изогнутый проход мимо множества, невероятного множества узких дверей, за которыми находились ложи»[Г., Т.2, с.357].
Затем героя ожидает множество дверей, ведущих его по всем уголкам и закоулкам его внутреннего мира.
Получается, что открытая дверь лишь по видимости воплощала идею самоубийства, на самом же деле вела в «Магический театр», где свершится постижение души героя.
Можно, конечно, предположить, что переход в реальность «Магического театра» есть эвфемистическое обозначение совершенного героем самоубийства. Однако слишком многое в тексте романа такой трактовке противится. Прежде всего это заключительная фраза «Трактата»:
«Если бы он уже был с бессмертными, если бы он уже был там, куда, кажется, направлен его тяжкий путь, как удивленно взглянул бы он на эти изгибы, на этот смятенный, на этот нерешительный зигзаг своего пути, как ободрительно, как порицающе, как сочувственно, как весело улыбнулся бы он этому Степному волку!»[Г., Т.2, с.251].
Значит, было некое продолжение жизни Степного волка, где (или, быть может, «после чего?») он узнал истину о себе самом. О том же говорит и финал «Записок», также указывающий на продолжение жизни героя: «Когда-нибудь я сыграю в эту игру получше». Наконец, убеждение «Издателя» «Записок Гарри Галлера»: «Нет, я убежден, что он не покончил с собой» [Г., Т.2, с.208]. И вот что удивительно: это утверждает тот же самый Издатель, сосед Гарри Галлера, который ранее назвал жизнь героя «жизнью самоубийцы»?! Подобные утонченные различения, изысканное размывание границ к лицу высоколобому интеллектуалу, автору «Трактата», но никак не незамысловатому мещанину. Если обе столь разные по уровню своего духовного развития и психологическому строению личности увидели или почувствовали в герое одно и то же – некую колеблющуюся антиномию, – значит, это сложное состояние и в самом деле было.
И еще одна странность в повествовательной ткани романа, косвенно подсказывающая читателю правильное решение вопроса о самоубийстве героя. Эта «странность» – отсутствие Марии, и в особенности Гермины в тексте «Предисловия издателя». «Издатель» видел прежнюю возлюбленную Гарри и рассказывал обо всех ее посещениях, в том числе и о последнем, когда они с Гарри страшно ругались; видел Гарри в его любимом ресторанчике, где тот «пропускал рюмку-другую» [Г., Т.2, с.201], разговаривал с ним на площадочке с араукарией и т. д. Все те же моменты отмечены и в «Записках Гарри Галлера», уже с позиции героя. Очевидно, «общие точки» в обоих нарративных потоках должны уверить читателя в «действительности» этих эпизодов – точнее, в том, что все это было в земном измерении.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"
Книги похожие на "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"
Отзывы читателей о книге "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков", комментарии и мнения людей о произведении.