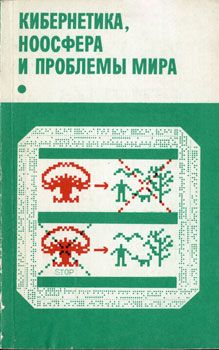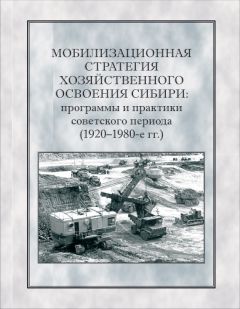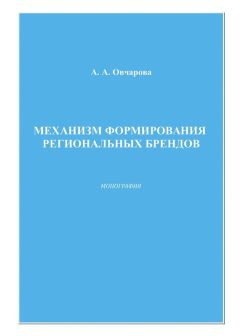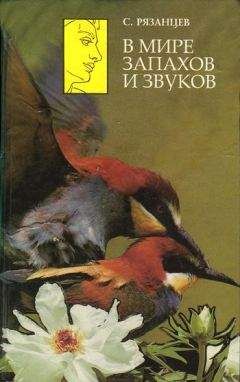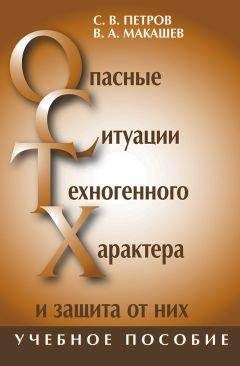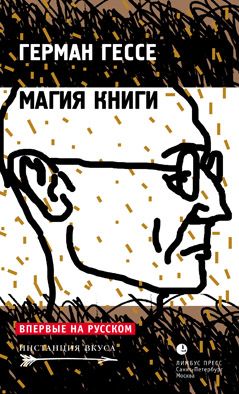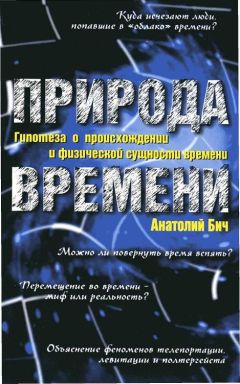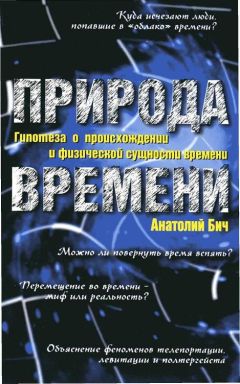А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"
Описание и краткое содержание "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков" читать бесплатно онлайн.
В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.
Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.
The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria. And this phenomenon was common to both, Russian-language literature at home and abroad, and West European literary writings.
The book is addressed to a wide range of readers, from literary critics, university lecturers and students to anyone interested in Russian and West European fiction.
У плотника в мастерской, а задолго до нее в деревенской школе, карандаш сносился на две трети первоначальной длины. Оголенная древесина на коническом кончике потемнела, приобрела свинцово-сливовый оттенок, слившись с тупым мыском графита, чей слеповатый лоск один только и отличал его от дерева. Нож и медное точило основательно потрудились над ним; будь в том нужда, мы могли бы проследить путаную участь стружек, в пору свежести лиловых с одной стороны и смугловатых с другой, но теперь ссохшихся в крошево праха, которого широкое Ч широчайшее Ч рассредоточение жутью сжимает горло, впрочем, этим следует пренебречь, Ч привыкаешь, и довольно быстро (выпадают ужасы и похуже). В целом строгать его было одно удовольствие Ч стародавней выделки вещь. Отступив на множество лет (впрочем, не к году рожденья Шекспира, в котором и был открыт карандашный графит), а затем возвращаясь в „настоящее“ и попутно собирая заново историю этой вещицы, мы видим девочек и стариков, перемешивающих с мокрой глиной графит, очень тонко помолотый. Эту массу, эту давленую икру, помещают вовнутрь металлического цилиндра, снабженного синим глазком, Ч сапфиром с просверленной дыркой, сквозь которую икру и продавливают. Она выползает одним неразрывным и аппетитным шнурком (следите за нашим маленьким другом!), вид у него такой, словно он сохранил форму пищеварительного тракта дождевого червя (но следите, следите, не отвлекайтесь!). Теперь его режут на прутики нужной длины, Ч нужной как раз для этих карандашей (мы замечаем резчика, старого Илию Борроудэйла, боковым зрением мы чуть не вцепились в его рукав, но осеклись, осеклись и отпрянули, торопясь различить интересующий нас кусочек). Видите, его пропекают, варят в жиру (на этом вот снимке как раз режут шерстистого жироноса, а на этом Ч мясник, вот здесь пастух, здесь отец пастуха, мексиканец) и вставляют в деревянную оболочку.
Теперь, пока мы возимся с древесиной, важно не упустить из виду наш драгоценный кусочек графита. Вот кстати и дерево! Самая та сосна! Ее валят. В дело идет только ствол, кора обдирается. Мы слышим визг недавно изобретенной мотопилы, видим, как сушат бревна, как их распиливают на доски. Перед нами доска, которая даст оболочку карандашу, найденному в пустом неглубоком ящике (по-прежнему незакрытом). Мы распознаем ее присутствие в бревне, как распознали бревно в дереве, и дерево в лесу, и лес в мире, который построил Джек. Мы распознаем это присутствие посредством чего-то для нас совершенно ясного, но безымянного Ч и описать его невозможно, как не опишешь улыбку человеку, отродясь не видавшему смеющихся глаз.
Так перед нами в мгновение ока раскрылась целая маленькая драма Ч от кристаллического углерода и срубленной сосны до этого скромного приспособления, этой прозрачной вещицы» [Н1., T.5,C.15–16].
А вот в опубликованных сравнительно недавно Д. Набоковым фрагментах «Лауры», незавершенного романа Набокова, – противоположный полюс развернутой метафоры жизнь человека – художественное произведение. Здесь описано не жизнетворчество, а «литературное» самоубийство – «самовымарывание» [НЛ., с.85][120]. Один из героев романа, Вайльд, в состоянии транса-медитации представляет в своем воображении самого себя, а затем мысленно «стирает», будто ластиком, различные части или органы своего тела – и они на время, как бы немея, перестают действовать. Сначала это были те органы, которые причиняли ему наибольшие страдания. Но в конце концов он, очевидно, «стирает» (по ошибке или сознательно?) свое сердце и умирает от инфаркта. Способ самоубийства в существе своем подобен творческому процессу, а в истоках – автобиографичен. Набоков, как известно, писал свои произведения на карточках, делая правку ластиком. Карандаш с ластиком для писателя был орудием сотворения жизни – художественной реальности – и уничтожения ее. В «Лауре» акцент – на уничтожении. Недаром на одной из карточек (как считает переводчик отрывков Г. Барабтарло, она последняя) – целая серия синонимов слова «уничтожать»[НЛ.,с.130].
Есть в опубликованных фрагментах «Лауры» намек и на аналогичное, «метафикциональное» убийство героини: ее бывший возлюбленный пишет книгу, где «создает образ своей любовницы и тем ее уничтожает»[НЛ.,с.79]. Писатель убил «реальную» героиню предполагаемого набоковского макротекста «Лаура и ее оригинал», сочинив в своем романе «Моя Лаура» ее смерть [НЛ.,с.125]
Здесь ясно просматриваются и мистические параллели между жизнью самого Набокова и процессом написания его последнего романа: автор умирает, сочинив смерть своего героя. То же и в случае Булгакова: он умер, написав роман о смерти мастера.
При этом бытие истинное, духовное предполагает единство «потусторонности» и художественной реальности, сочиненной писателем, ибо «жизнь человеческая подобна книге, созданной в мире трансцендентного»[121].
Набоковым и Булгаковым концепция сочинительства как «жизнетворчества» унаследована от символистов. К наследию символистов восходит и генезис набоковской и булгаковской концепции писателя-Демиурга.
«Набоков, – по справедливому замечанию В.Е. Александрова, – в характерных образцах своего творчества воссоздает идею художника как соперника Бога, а художественные творения рассматривает как аналоги созданного Богом природного мира»[122].
Набоков действительно называл Всевышнего главным «конкурентом» художника [Н1., Т.3,с.575], а себя – безраздельным монистом [Н1., Т.3,с.596, 614] и хозяином собственного художественного мира: его позиция как автора литературного текста аналогична позиции Бога в монистических религиях. Он – творец «управляемого взрыва», результатом которого становится рождение «второй реальности» художественного мира.
«Это человек, которого я выдумал, <…> он никогда не существовал, – сказал Набоков о Гумберте Г. в Интервью Би-би-си 1962 г. – Когда я написал книгу, он появился. Пока я писал книгу, то в разных газетах читал тут и там сообщения о пожилых мужчинах, которые преследовали маленьких девочек: довольно интересное совпадение, но не более того» [Н1., Т.2,с.573].
При этом отношение автора к своим героям внутренне парадоксально: он создает живые куклы, «внимательно следит» за ними,
«лепит их речь и жесты, но они обретают свою собственную манеру говорить и двигаться в том мире, который он для них создал»[123].
И так же, как вся история мироздания, по блаженному Августину, была продумана Богом сразу, с первого момента возникновения в мельчайших подробностях, так и в воображении писателя произведение рождается сразу и лишь затем, в материальном мире, разворачивается в последовательность букв и слов, которая воспринимается читателем во времени и пространстве. Но рождается художественный мир, по Набокову, сразу, ибо
«полученный итог – это плод того четкого плана, который заключался уже в исходном шоке, как будущее развитие живого существа заключено в генах»[124].
Так и в романе «Дар»:
«С самого начала образ задуманной книги представлялся ему (писателю Федору – А.З.) необыкновенно отчетливым по тону и очертанию, было такое чувство, что для каждой отыскиваемой мелочи уже уготовано место и что самая работа по вылавливанию материалов уже окрашена в цвет будущей книги, как море бросает синий отсвет на рыболовную лодку, и как она сама отражается в воде вместе с отсветом» [Н., Т.4,с.380].
Эстетика мистической метапрозы Гессе, Набокова и Булгакова реализует древнюю метафору мировой книги: наш мир – книга, написанная Богом. Поэтому и эстетическая концепция Набокова предполагает пропорцию: Автор так относится к тексту своего сочинения, как Бог к нашемумиру, Им сотворенному. Отсюда – трехмерная структура набоковского романа: уровень бытия героя – художественная реальность – так соотносится с миром «жизни действительной», где обитает автор, как уровень автора – с предощущаемым трансцендентным бытием Бога. Так Адам Круг в финале романа «Bend Sinister» вернулся «в лоно своего создателя» [Н1., Т.1,с.202] – таинственного антропоморфного божества, которое «режиссировало» провидческие сновидения героя, ниспослало ему спасительное безумие и, наконец, даровало бессмертие – в награду за то, что он оказался способным уловить свою связь с Творцом. А в автобиографическом романе «Другие берега» уже сам Набоков, воспроизводя кадр за кадром киноленту своей жизни и всматриваясь в нее слегка отстраненным взглядом мастера, отчетливо видит в этом прекрасном произведении искусства, которое есть его жизнь, и замысел Создателя, и свою роль любимого героя.
Набоковская концепция Автора как создателя новой художественной реальности соединяет в единое целое металитературную и мистико-иррациональную линии его творчества.
Во многом аналогична концепция Автора и в мире Булгакова. Чрезвычайно важно в этом смысле соединение в образе Иешуа трех ипостасей: земной, религиозно-мистической и эстетической. Если в реальности земной он – наивный бродячий философ, то в сфере трансцендентного – не только правитель Вселенной, но и высший Цензор. В сцене прощения Пилата проявляют себя все три ипостаси образа: акт милосердия свершается и от лица Иешуа земного – жертвы преступления, и Бога – Творца Вселенной, и по деликатной подсказке мастеру высшего Цензора. Но произносит формулу прощения мастер – автор романа о Пилате. И судя по всему, в отличие от Воланда, Иешуа понимает сочинительство отнюдь не как «описывание», но как акт творения, причем творения милосердного.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"
Книги похожие на "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"
Отзывы читателей о книге "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков", комментарии и мнения людей о произведении.