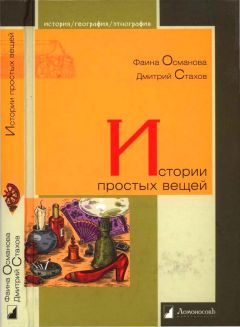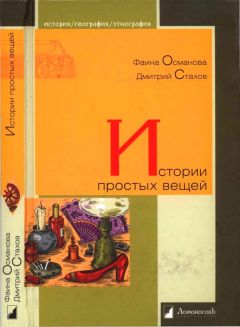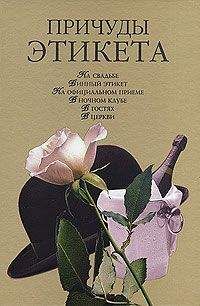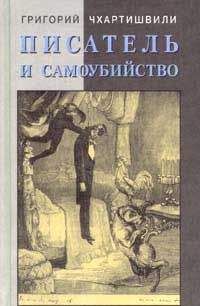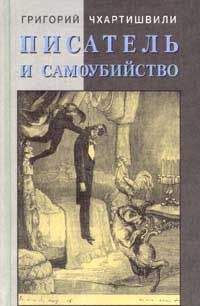Мирослав Попович - Кровавый век

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Кровавый век"
Описание и краткое содержание "Кровавый век" читать бесплатно онлайн.
Книга «Кровавый век» посвящена ключевым событиям XX столетия, начиная с Первой мировой войны и заканчивая концом так называемой «холодной войны». Автор, более известный своими публикациями по логике и методологии науки, теории и истории культуры, стремился использовать результаты исследовательской работы историков и культурологов для того, чтобы понять смысл исторических событий, трагизм судеб мировой цивилизации, взглянуть на ход истории и ее интерпретации с философской позиции. Оценка смысла или понимание истории, по глубокому убеждению автора, может быть не только вкусовой, субъективной и потому неубедительной, но также обоснованной и доказательной, как и в естествознании. Обращение к беспристрастному рациональному исследованию не обязательно означает релятивизм, потерю гуманистических исходных позиций и понимание человеческой жизнедеятельности как «вещи среди вещей». Более того, последовательно объективный подход к историческому процессу позволяет увидеть трагизм эпохи и оценить героизм человека, способного защитить высокие ценности.
Определенная таким образом украинскими национальными социалистами политическая и социальная база «сознательного украинства» заведомо не могла обеспечить потребность нового государства в квалифицированных людях.
Центральная Рада сформировалась как представитель интересов этнических украинцев. Это не значит, что она ставила в качестве цели – хотя бы поначалу – образовательную и культурную работу по сплочению украинского этноса. Налаживанием украиноязычного образования более плодотворно занималось соответствующее министерство Временного правительства и лично попечитель Киевского учебного округа, то есть Н. П. Василенко, а после его переезда в Петроград – его помощник В. П. Науменко, многолетний редактор «Киевской старины».
Свою позицию в образовательной политике Н. П. Василенко сформулировал таким способом: «По моему мнению, украинские школы следует учреждать по мере того, как будут назревать потребности, не задевая уже существующие русские школы, поскольку российская культура настолько сильна на Украине и потребность в учебе настолько понятна, что в данное время такая искусственная украинизация была бы в значительной мере культурным насилием».[210] Позиция национальных социалистов была существенно радикальнее; в конечном итоге, образование и культура тогда их интересовали меньше.
Неблагосклонный к Центральной Раде Н. М. Могилянский позже писал о ее политике так: «Чрезвычайно типично, что с необычной скоростью отстранены были от дел наиболее уважаемые и заслуженные деятели украинской идеи, такие как, например, ее ветеран, глубоко всеми уважаемый педагог, ученый и литературный деятель В. П. Науменко, назначенный Временным правительством попечителем киевского учебного округа. Другой уважаемый украинец, Н. П. Василенко, был в это время товарищем министра народного образования при министерстве акад. С. Ф. Ольденбурга».[211] Можно упомянуть еще и имя другого товарища (заместителя) министра образования В. И. Вернадского, который при гетмане вместе с Василенко создавал в Украине Академию наук, украинский университет и национальную библиотеку; или имя Б. А. Кистяковского, который вместе с Науменко пытался основать партию, а затем отошел от политики, приняв участие в организации Академии наук. Из признанной интеллектуальной украинской элиты разве что только знаменитый экономист М. Туган-Барановский вошел в правительство Центральной Рады.
Такое отношение национальных социалистов и национал-демократов к элитарным кругам Украины можно объяснить: в большинстве своем эти последние, включая цитируемого Н. Могилянского, поддерживали либеральную демократию империи, в первую очередь конституционно-демократическую партию, руководство которой обнаруживало полное непонимание национальных стремлений Украины к суверенитету в хотя бы самой скромной форме. Для лидеров Центральной Рады украинские деятели кадетского круга были «пророссийскими украинцами», «малороссами».
Позже, во времена Скоропадского, Вернадский вел переговоры с Грушевским по поводу организации Украинской Академии наук, и Грушевский категорически не согласился с планами создания национального научного центра на основе объединения естественников, математиков и инженеров с гуманитариями. Он убеждал Вернадского, что поскольку деятели «позитивных наук» имеют российское образование, то такое учреждение окажется сразу пророссийским, и настаивал на своем старом плане организации украинской Академии наук на базе общественных научных национальных обществ типа НОШ. Аналогично политиками Центральной Рады строились государственные структуры во всех сферах, включая военную.
Подавляющее большинство Центральной Рады не обязательно происходило из села. Само по себе социальное происхождение так же мало значит, как и национальное.
Преднамеренная демонстрация собственной «селянскости» и «народности» – это совсем не неосознанное проявление глубоко укорененных черт крестьянской бытовой культуры и предопределенных воспитанием крестьянских политических ориентаций. Демонстративная «селянскость» определенного типа интеллигентов угрожающе приближалась к демонстративному плебейству, которое несло в себе политическую опасность.
Какими бы ни были нищими и унизительными условия тогдашнего села, из него выходили уже в то время представители высокой культурной и политической элиты. Для определенной категории политиков той поры их «селянскость», настоящая или притворная, была скорее позицией и позой, которая в личном плане должна была лишить их комплексов неполноценности, а в общественном – получить политический капитал: мотивы уже зависели от «честности с собой».
Центральной Раде удалось – невзирая на нехватку кадров из «сознательного украинства» – овладеть чрезвычайно сложной ситуацией в Украине и превратиться из национально-культурного объединения в политическую силу с государственными функциями.
Основная задача Центральной Рады – превращение этнокультурного и этнополитического центра в государственно-территориальный – требовала в первую очередь согласования с другими национальными группами, поскольку территориальные выборы провести было невозможно. Эту задачу Центральная Рада решала очень успешно. С осени она выступала уже не только как представитель украинского этноса, а как автономная общенациональная власть на украинской этнической территории (хотя и на очень ограниченной территории и с очень ограниченными полномочиями).
Источником острого конфликта Центральной Рады с общероссийскими партиями оставалось то, что они – в отличие от польских и еврейских – не желали признавать себя партиями национального меньшинства. Единственной общегосударственной политической партией, которая к Октябрьскому перевороту поддерживала Центральную Раду во всех ее самостийных акциях вплоть до государственного отделения, были большевики. От них национальные социалисты тоже требовали признания себя русской национальной партией, на что те, как и кадеты, эсеры или меньшевики, обычно не соглашались. И действительно, украинские большевики еще меньше, чем украинские кадеты, представляли на деле российское национальное меньшинство; они находились в другом, наднациональном («интернациональном») политическом пространстве, и альтернатива «украинский – неукраинский» к ним не подходила.
Центральная Рада признала четыре официальных языка – украинский, русский, польский и идиш. Лозунг «Украина – общий дом всех народов, которые живут на ее территории» окончательно победил идеологию «Украина для украинцев», и осенью были достигнуты определенные компромиссы с Петроградом.
А главным было то, что таким образом рассуждали не только большевики, но и простые люди Украины, которым приходилось выбирать. В октябрьские дни, когда решалась судьба Украины и России, Всеукраинский военный съезд поддержал украинскую государственность, но, в отличие от Центральной Рады, не осудил большевистского переворота – солдаты в первую очередь не хотели войны и ненавидели правительство и офицеров с генералами. Обе силы – красная и «жовто-блакытна» – нередко представлялись народной массе совместимыми, потому что их лозунги находились в разных плоскостях. Можно было быть в одно и то же время и за независимую Украину, и за призывы «землю – крестьянам, война войне, мир хижинам, война дворцам».
Причиной военной слабости Центральной Рады стали радикализм в национальном вопросе и подчеркнуто «народническая» кадровая ориентация, а не социалистические догмы относительно «замены армии общим вооружением народа».
Более четкая позиция национальных политиков проявлялась в борьбе за украинские национальные вооруженные силы.
Сегодня у многих авторов встречается обвинение в адрес руководителей Центральной Рады в том, что они, следуя социалистическим догмам о замене постоянного войска общим вооружением народа, пренебрегли перестройкой армии, в результате чего Украина оказалась безоружной перед лицом врага. Соответствующих цитат из Винниченко или Порша достаточно – как, в конечном итоге, таких же цитат из Ленина, что не помешало большевикам создать боеспособную армию.
В действительности Центральная Рада очень стремилась создать собственные вооруженные силы. Борьба Рады за собственное войско составляла одно из решающих направлений ее политической работы.
Инициатива здесь принадлежала, нужно признать, не Центральной Раде, а группе правых радикалов. Молодые офицеры, объединившиеся вокруг Михновского, создали «клуб имени Полуботка», который разместился в помещении Троицкого народного дома (в настоящее время – театр оперетты). По их инициативе и была создана первая украинская часть – полк имени Богдана Хмельницкого. «Полуботковцы» были также инициаторами созыва I Украинского военного съезда в мае 1917 г. Открыть съезд пытался Михновский, но сухенький Грушевский сердито отодвинул его плечиком и сам взял в руки руководство съездом как председатель Центральной Рады. Здесь и появился на авансцене политических событий Симон Петлюра, деятель полувоенного, полутылового Земского союза, выдвинутый Грушевским и Винниченком в противовес «полуботковцам» в руководители съезда и созданного Центральной Радой после съезда Генерального военного секретариата. Михновский, личность слабая и психически неустойчивая, фактически перестал играть после этого активную роль; он закончил жизнь трагически – самоубийством после очередного допроса в Киевской ЧК в 1924 году.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Кровавый век"
Книги похожие на "Кровавый век" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Мирослав Попович - Кровавый век"
Отзывы читателей о книге "Кровавый век", комментарии и мнения людей о произведении.