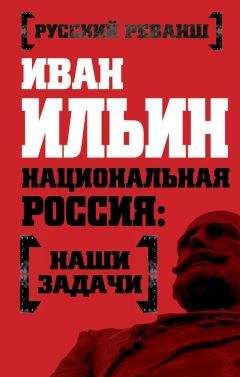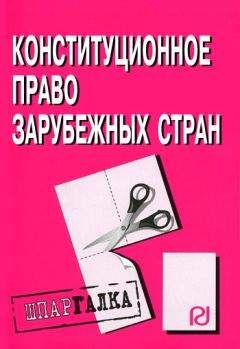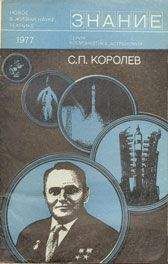Михаил Безродный - Россия и Запад

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Россия и Запад"
Описание и краткое содержание "Россия и Запад" читать бесплатно онлайн.
Сборник, посвященный 70-летию одного из виднейших отечественных литературоведов Константина Марковича Азадовского, включает работы сорока авторов из разных стран. Исследователь известен прежде всего трудами о взаимоотношениях русской культуры с другими культурами (в первую очередь германской), и многие статьи в этом сборнике также посвящены сходной проблематике. Вместе с тем сюда вошли и архивные публикации, и теоретические работы, и статьи об общественной деятельности ученого. Завершается книга библиографией трудов К. М. Азадовского.
Стихотворная речь отличается от прозаической только и именно интонацией; интонация является единственным специфическим ее признаком; стих как особая форма речи — интонационное явление. И членение на стиховые отрезки есть не что иное, как форма записи интонации неадресованности.
Разумеется, повествовательная интонация может сохраняться (об этом уже сказано); так и происходит в повествовательных жанрах — поэмах, дружеских посланиях, мадригалах… Но стихотворная речь ощущается как стихи только в присутствии интонации неадресованности и благодаря ей. Она — необходимое и достаточное условие стихотворной речи. Можно убрать из стихов все прочие стиховые признаки — размер, рифму, аллитерации, ассонансы — и оставить одно только членение на стиховые отрезки, обозначив тем самым необходимость стиховой интонации, и стихи будут стихами, верлибром. А. М. Пешковский был не прав, утверждая, что «новый знак препинания — недоконченная строка» — не превращает прозу в стихи. Именно превращает. Не в поэзию, конечно, а в стихи. И вопрос о том, может ли одна фраза быть стихом, разрешается очень просто: все зависит от ее звучания, от того, с какой интонацией она произносится. Предложение: я уйду, ни о нем не спросив — останется прозаической фразой, если читающий не почувствует анапеста, не произнесет монотонно-перечислительно, например так, с тремя ритмическими ударениями: я уйду, ни о чём, не спросив. Но и фраза, лишенная метра, должна быть снабжена ритмическими акцентами, должна произноситься с интонацией неадресованности, чтобы стать стихом.
В сущности, стихотворная речь — это такая переадресация, при которой речь минует собеседника. Причем качество стихов, беремся утверждать, зависит от смыслового разрыва между фразовой интонацией, обусловленной лексико-грамматическим элементом, и монотонней размера. Чем больше несоответствие, тем значительнее художественный эффект.
Интересны случаи, где фразовая интонация в стихах на периферии сознания сохраняет привычное звучание, свойственное ей в известной обыденной ситуации. Мне уже не раз приходилось вспоминать прелестную строку Бродского «Эвтерпа, ты? Куда зашел я, а?». Ее очарование в удивительном соединении монотонии пятистопного ямба с прозаической интонацией переспроса, при участии разговорно-домашнего междометия «а». Все возможные обертоны смысла, хранящиеся в синтаксической конструкции вопроса (по существу, двух вопросов): куда зашел я, а? — как бы проглатываются лирическим напевом стиха: и удивление, и, возможно, ужас или возмущение… Но они не вполне забыты, тем и хороша эта незабываемая строка.
Еще один пример, из стихотворения Александра Кушнера:
Летит еврейское письмо.
Куда? — не ведает само,
Слова написаны, как ноты.
Скорее скрипочку хватай,
К щеке платочек прижимай,
Не плачь, играй… Ну что ты? Что ты?
Подобное обращение (к внезапно появляющемуся персонажу — воображаемому скрипачу), если иметь в виду лишь лексико-грамматическое содержание, в прозаической ситуации выражает побуждение, которое может произноситься по-разному и, сменяясь увещеванием (не плачь, играй), а затем двумя испуганными вопросами, совершенно преображается мелодией четырехстопного ямба, гостеприимно распахнувшего объятия для череды знакомых фразовых интонаций. Известные типы интонационных конструкций здесь, в стиховых условиях, звучат иначе: в частности, вопросы лишены или почти лишены вопросительной интонации.
Мандельштам утверждал, что соизмеримость с пересказом — «вернейший признак отсутствия поэзии». Все дело в том преображении речи, которое происходит с фразовой интонацией в условиях стиха. Об этом замечательно сказал Вяземский, определяя искусство поэзии как «уменье чувствовать и мыслить нараспев». Не читать, не произносить, а мыслить и чувствовать. Внутренняя речь поэта отличается от нашей обычной внутренней речи особым звучанием — интонацией неадресованности.
____________________ Е. В. НевзглядоваОт зимы к весне: рассказы В. Т. Шаламова «Шерри-бренди» и «Сентенция» как цикл
Он, кажется, дичился умиранья…
О. Мандельштам, «Когда душе и торопкой и робкой…»Для всех я был предметом торга, спекуляции, и только в случае Н.Я. — глубокого сочувствия.
В. Т. Шаламов[620]С Осипом Мандельштамом Варлама Шаламова свела не жизнь, а смерть. Нина Владимировна Савоева, та самая «мама черная» и докторша, что спасла от смерти самого Шаламова, как-то рассказала ему все то, что знала о смерти Мандельштама. А знала она, в сущности, все, поскольку ей рассказывали об этом надежнейшие из очевидцев — коллеги-врачи из пересыльного лагеря под
Владивостоком, на руках у которых 27 декабря 1938 и умер поэт. Годом позже через этот лагерь проезжала и она, молодая и энергичная выпускница мединститута, — по дороге на Колыму, куда добровольно решила и решилась поехать. Не один Шаламов обязан ей жизнью — она спасла многих, но надо же было так случиться, чтобы весть о банальной смерти гениального дистрофика-поэта легла именно в его, шаламовские, уши!
Душа и перо Шаламова отозвались на это в 1958 году — спустя двадцать лет после той смерти на «Второй речке» — поразительным рассказом «Шерри-бренди». Надежда Яковлевна Мандельштам (далее Н.Я.) не права, называя его просто размышлениями вслух о том, что должен был бы чувствовать умирающий в лагере поэт, или «данью пострадавшего художника своему собрату по искусству и судьбе»[622]. Представить себя на месте Мандельштама колымчанину Шаламову было нетрудно — он и пишет о перетекании жизни и смерти, об их вхождении в умирающее тело и выхождении из него, и пишет явно не понаслышке. Но как быть с другими образами из «Шерри-бренди», например с прорицателем из китайской прачечной или с завораживающими концентрическими линиями-бороздами на подушечках изъеденных табаком пальцев?.. Поэт, еще живой, смотрит на этот дактилоскопический узор как на срезы ствола дерева, уже спиленного и поверженного!.. Простой цеховой солидарности — зэческой и писательской — тут недостаточно, налицо иная глубина проникновения, быть может, в один из самых дорогих сердцу образов, глубина, сделавшая «Шерри-бренди» великим и одним из лучших у Шаламова.
Рассказ написан как бы в расчете на то, что читатель уже знает героя, как и его поэзию. Былое величье свободных исканий и творческих озарений только усиливается низменными обстоятельствами смерти и способностью мозга обдумывать только одну мысль — о еде. Не забывает Шаламов и напомнить об окружающем умирающего поэта барачном социуме — тех самых «гурте и гурьбе», о которых сказано в «Стихах о неизвестном солдате». В концовке рассказа говорится об изобретательности этого социума: двое суток удавалось им выдавать умершего уже поэта за живого и тем самым получать за мертвеца дополнительную пайку хлеба дополнительные два дня. «Стало быть: он умер раньше даты своей смерти — немаловажная деталь для будущих его биографов».
Рассказ «Шерри-бренди» был написан в 1958 году, а впервые опубликован спустя десять лет, в 1968-м, в американском «Новом журнале»[623]. Но еще до этого он гулял в самиздате, а однажды даже прозвучал на родине: 13 мая 1965 года Шаламов прочел его на вечере памяти Осипа Мандельштама на механико-математическом факультете МГУ. Назывался рассказ тогда иначе — «Смерть поэта», а сам Шаламов, по свидетельству А. Гладкова, «…исступленно, весь раскачиваясь и дергаясь, но отлично говорил…»[624]. Вечер вел Эренбург, а в зале сидела Надежда Яковлевна…
Выступление Шаламова оказалось, перефразируя Блока, одним из «гвоздей» вечера. Валентин Гефтер, в то время студент мехмата и главный устроитель самого вечера, позднее вспоминал:
Апофеоз вечера наступил (для меня, во всяком случае), когда пришла очередь Шаламова, который не очень-то был тогда известен даже в писательских кругах, не говоря уж о более широкой публике. Он вышел, как и все выступавшие, к месту лектора и на фоне учебной доски прочел свой знаменитый рассказ о гибели поэта в пересыльном лагере на «Второй речке».
Сам текст вместе с перекореженным от эмоционального напряжения и приобретенного им в Гулаге нервного заболевания лицом произвели на слушателей/зрителей потрясающее впечатление. Вряд ли можно было сильнее и трагичнее передать все, что связано было для людей 1965 года с судьбой Мандельштама и всей страны. Культ не культ, а причастных к террору были немало… Так воспринималось нами то, что сделали все еще властвовавшие нами (прошло лишь 12 лет со смерти Сталина) и «их» время с Поэтом и культурой вообще. И не в последнюю очередь с нашими душами, отравленными воздухом той жуткой и одновременно чуть ли не героической (все еще в восприятии многих, в том числе и моем) эпохи[625].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Россия и Запад"
Книги похожие на "Россия и Запад" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Безродный - Россия и Запад"
Отзывы читателей о книге "Россия и Запад", комментарии и мнения людей о произведении.