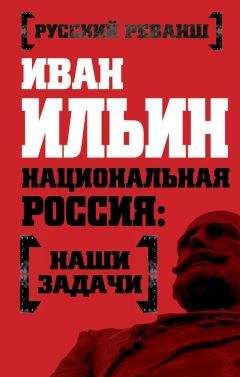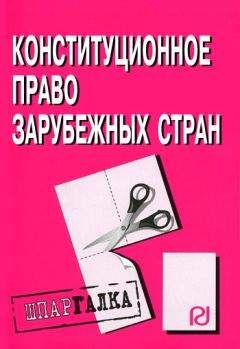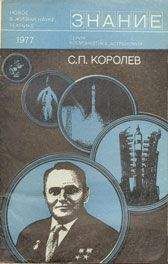Михаил Безродный - Россия и Запад

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Россия и Запад"
Описание и краткое содержание "Россия и Запад" читать бесплатно онлайн.
Сборник, посвященный 70-летию одного из виднейших отечественных литературоведов Константина Марковича Азадовского, включает работы сорока авторов из разных стран. Исследователь известен прежде всего трудами о взаимоотношениях русской культуры с другими культурами (в первую очередь германской), и многие статьи в этом сборнике также посвящены сходной проблематике. Вместе с тем сюда вошли и архивные публикации, и теоретические работы, и статьи об общественной деятельности ученого. Завершается книга библиографией трудов К. М. Азадовского.
Каждая стихотворная строка заканчивается ритмической паузой, которая, сточки зрения логико-грамматической, бессмысленна, паузой, которая не похожа ни на один из известных видов паузы, встречающихся в прозаической речи: это не синтаксическая пауза, хотя по большей части совпадает с ней, не эмотивная; это и не пауза хезитации. Для того чтобы увидеть ее особый характер, удобно рассмотреть стиховую строку с анжамбеманом, где стиховая пауза не сливается с синтаксической:
светило ушло в другое
полушарие, где
оставляют в покое
только рыбу в воде.
Или:
Вам я тлю стихи свои когда-то
Их вдали игравшие солдаты…
Пауза после «где» в первом случае и «когда-то» во втором не может быть принята за синтаксическую, она бессмысленна; в специфическом явлении анжамбмана явственно выступает асемантический характер стиховой паузы. Но и в тех случаях, когда асемантическая пауза совпадает с синтаксической, она присутствует, ее нельзя не учитывать. Эта пауза определяется ритмом и не зависит от логико-грамматического строения речи. Такая не зависящая от логико-синтаксического содержания фразы пауза в письменной прозаической речи появиться не может. При совпадении с синтаксической паузой она может быть не услышана, но совпадение этих пауз по местоположению не означает возможности их отождествления; они предстают как две склеенные гетерогенные паузы[603].
Об иррациональной конститутивной паузе упоминали многие исследователи стиха. Однако ее суть и последствия оставались невыясненными. Ее видели, а не слышали. Проделаем такой опыт. Возьмем газетный столбец и прочтем его двояким образом: делая синтаксические паузы, игнорируя деление на столбцы газетного текста, мы читаем прозу; если мы на месте вынужденного обрыва фразы в столбце устраиваем асемантическую паузу, мы читаем стихи, потому что сама собой — как следствие этой паузы — возникает характерная стиховая монотония:
Что касается учета мнения населения, то
данные соцопросов и раньше были — но
как дополнительный индикатор. Теперь же
это будет полноценный показатель качества
деятельности территориального подразделения.
Придется читать текст совсем иначе, чтобы прозвучала стиховая пауза в конце столбца, — с бессмысленными, чисто ритмическими ударениями, монотонно-перечислительно, как если бы это были однородные члены предложения: «Что касается, учета мнения, населения, то, / Данные соцопросов, и раньше, были, но, / Как дополнительный, индикатор, Теперь же…»
А. М. Пешковский, обратив внимание на стиховую паузу в верлибре, назвал ее «новым знаком препинания — недоконченной строкой»[604], но при этом заключил, что от применения его написанное прозой не делается стихами. Он не заметил зависимости между асемантической паузой и стиховой интонацией.
Между тем эта зависимость для стихотворной речи является определяющей, потому что ритмическую монотонию образуют ритмические акценты, которые в стихах коренным образом отличаются от фразовых ударений прозаической речи.
В статье «Просодический космос русского стиха»[605] С. В. Кодзасов связывает стихотворный ритм с фразовой акцентуацией, считая ее компонентом ритмики стиха. Но реальное звуковое строение стиха, как Гаспаров определяет ритм, может абсолютно не зависеть от фразовой акцентуации, наоборот, ритм стремится нарушить ее, отступая от нее так же, как отступает от метрической схемы.
Все размеры, — говорит Кодзасов, — как правило, имеют в эвфонических (то есть напевных, по классификации Эйхенбаума. — Е.Н.) стихах совершенно стандартные схемы вторичного ритма: четырехстопный ямб — схему хххХхххХ(х), четырехстопный хорей — схему ххХхххХ(х)[606].
Эти ритмические схемы, подобные метрическим схемам размеров, — если они действительно существуют, — существуют в подспудной памяти поэта и читателя и нужны именно для того, чтобы слышны были не случайные от них отклонения. Вот пример, который приводит Кодзасов, звездочками отмечая ритмические акценты:
Снова *тучи надо *мною
*Собралися в *тишине;
Рок *завистливый *бедою
*Угрожает снова *мне…
*Сохраню ль к судьбе *презренье?
*Понесу ль навстречу *ей
*Непреклонность и *терпенье
Гордой *юности *моей?
Свою расстановку акцентов исследователь обосновывает инверсиями, при которых в прозаической речи смещаются фразовые акценты: ср. завистливый *рок, но рок *завистливый; презренье к *судьбе, но к судьбе *презренье. Однако нетрудно заметить, читая стихи с этими акцентами, что в них возникает ритмическая раскачка, скандовка. Эта скандовка стихам не нужна, она мешает воспринимать смысл. Если мы попросим поэта (любого поэта, что и было мною проделано) прочитать эти стихи, ритмические акценты в них окажутся на других местах; вот одно из характерных прочтений:
Снова *тучи надо *мною
*Собралися в *тишине.
*Рок завистливый *бедою
*Угрожает *снова мне.
*Сохраню ль к *судьбе *презренье?
*Понесу ль навстречу *ей
*Непреклонность и *терпенье
*Гордой *юности *моей?
В чтении поэтов акценты оказываются на разных слогах, стихи избегают ритмического подобия строк, не хотят звучать как логаэды. Ритмическая скандовка стихам противопоказана[607].
Но дело не только в исполнении. Дело в строении этой речи. О замене фразовых и синтагматических ударений чисто ритмическими красноречиво говорят инверсии, свойственные стихотворной речи.
И. И. Ковтунова заметила, что «инверсия и дислокация в стихах перестают играть ту стилистическую роль, которую они регулярно играют в прозе». Но объяснила это тем, что «соблюдение стабильного расположения слов в синтаксических конструкциях затруднило бы построение различных метрических форм стиха»[608]. Такая мотивировка представляется по меньшей мере наивной: нарушение языковых норм говорит о слабости поэта; между тем инверсиями пользуются как раз настоящие поэты, не версификаторы. Поэты знают, точнее — чувствуют иное качество стихотворного ритма (по сравнению с прозаическим), и об этом свидетельствует поэтический синтаксис. В строке
Я берег покидал туманный Альбиона
Батюшкову ничего не стоило устранить дислокацию и выправить порядок слов согласно синтаксической норме: я покидая туманный берег Альбиона. Поэт этого не делает, смею утверждать, потому, что нормативная конструкция склоняет к нормативному фразовому ударению, а дислокация ведет к бессмысленному, музыкально-ритмическому. В результате появляются такие синтаксические монстры, как «Я берег» и «туманный Альбиона». В прозаической книжной речи они были бы невозможны. Но человек, обладающий поэтическим слухом, почувствует здесь связь поэзии с инверсией и подтвердит, что при выправленном порядке слов что-то важное (сама поэзия!) улетучивается из этой фразы. (В шестистопном ямбе требование цезуры тем и объясняется: необходимостью чисто ритмического ударения. Цезура возникла из предпочтения ритмического ударения фразовому[609].)
Еще примеры:
Уж не жду от жизни ничего я…
Под бурею судеб, унылый, часто я
Скучая тягостной неволей бытия…
Зимним утром люблю надо мною
Я лиловый разлив полутьмы…
Понемногу челядь разбирает
Шуб медвежьих вороха…
Сижу, читая, я сказки и были…
Эти формы можно было бы трактовать как насилие стиха над языком, если бы они не были столь естественны для стихотворной речи. (Последний пример, вырванный из контекста, кажется неудачной строкой, но это не так: в ней есть свойственная Кузмину неслучайная небрежность, домашность, нарочитая неловкость, «мешковатость», как это назвал Мандельштам, говоря о Кузмине. Именно за счет выразительности инверсии.)
Ничем иным этого явления нельзя объяснить, как только тем, что ударения (мы их выделили жирным шрифтом) качественно меняются: это не фразовые ударения, и роль их другая. Несмотря на то что в ритмическом ударении участвует весь комплекс интонационных средств, включающий интенсивность, мелодику и длительность, оно существенно отличается от фразового ударения, все тонкости которого относятся к смысловыражению[610]. Беспорядочность и бессмысленность ударений, которые наблюдаются в стихотворной речи, наглядно демонстрируют, что в стихах они создают музыкальный ритм. И отличие его от прозаического не просто функциональное, как думал Тынянов (и вслед за ним Томашевский), — это отличие сущностное, онтологическое. Как пишет исследователь, в прозе ритм «обслуживает смысловую функцию речи»[611]. В стихе этого не происходит.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Россия и Запад"
Книги похожие на "Россия и Запад" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Безродный - Россия и Запад"
Отзывы читателей о книге "Россия и Запад", комментарии и мнения людей о произведении.