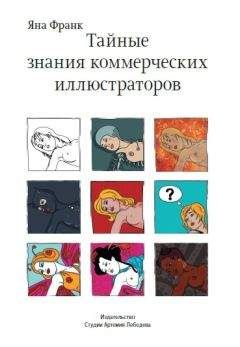Мария Чегодаева - Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых"
Описание и краткое содержание "Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена замечательным художникам: Петру Васильевичу Митуричу, его жене и сестре великого поэта Велимира Хлебникова Вере Владимировне Хлебниковой и их сыну Маю Петровичу Митуричу-Хлебникову. Основу книги составили многочисленные документы, как опубликованные ранее, так и находящиеся в семейном архиве (воспоминания, письма).
На фоне исторической реальности России того времени автор стремится создать максимально полную картину жизни и творчества художников от начала XX века до 1956 года (даты смерти П. В. Митурича). Кроме того, в книге представлен тщательный анализ их живописных и графических работ.
В Москву приехала Н. О. Коган из Витебска. Она была со мной в приятельских отношениях и вела со мной переписку. Оказалось, что она приехала вскоре после нашего отъезда с Велимиром из Москвы. Она вскоре узнала из Ленинграда о тяжелой болезни Велимира. Общаясь с Городецким, побуждала его к действию на помощь. Городецкий тянул, говоря, что никто не решится ехать в Санталово. Тогда она заявила, что первая поедет при первой материальной возможности. Это заставило С. Городецкого потолкаться где нужно и предпринять сборы. Коган общалась с Исаковыми. И вот общими усилиями исхлопотали место в больнице и некоторые средства на поездку за Велимиром, для чего собралось трое мужчин во главе с Сережей [Исаковым].
Обычно откровенный во всех своих делах со своими друзьями и учениками, я воздержался от рассказов всех подробностей болезни и обстоятельств, связанных с последними днями жизни Велимира. Не говорил об этом по многим причинам. Во-первых, потому, что мне хотелось если рассказать обо всем, то только тем людям, для которых память о Велимире действительно дорога. Такими людьми были родные Велимира. И прежде чем мне пришлось с ними свидеться, я не считал возможным удовлетворять любопытство других, даже и тех, кто уважал Велимира или даже мистически трепетал перед его именем, как та же Н. О. Коган, или даже тем, кто высказывал к Велимиру свое бескорыстное служение.
Но мое молчание косвенно подтверждало в глазах многих мою преступность в отношении Велимира. Даже близкие приятели, до сего времени доверчиво относившиеся ко мне как товарищу или безупречному знакомому, не избегли подозрительности. Так, например, Н. О. Коган, у которой я часто бывал и которая была моим ближайшим „секретарем“ в делах и вопросах искусства, однажды у себя дома учинила мне такой допрос: „Почему вы не привезли Велимира?“ „Не мог“. „Может быть, вы хотели стать первым и единственным и желали смерти Велимира?“ Потом, чтобы легче вызвать признание, добавляет: „Я сужу по себе, я ловила себя на такой мысли в отношении Малевича“. Отвечаю: „Нет, Н.О., таких мыслей у меня не было“. Более чудовищного оскорбления всех моих чувств я не могу представить. Но тут не большая вина Н.О., она человек весьма неустойчивый и в то же время доброжелательный, особенно ко мне. <…> Очень экзальтированное существо, живет исключительно делами искусства и новаторства в нем. Обожает всех носителей новых идей и особенно тех, кто хотел видеть в ней ученика и опору. Самоотверженная в делах агитации. Влюбленная и милейшая в обращении. Но, по существу, искусства не понимавшая и в особенности поэзии и философии.
Правда, к Велимиру у нее было особенное почитание, что и сближало нас с ней. Но в то же время она обожала Малевича и готова была спрыгнуть с балкона, если бы на то была его капризная воля. Так что Малевич ей сам говорил, что когда она поймет истинный смысл его философии, то наверняка отшатнется от него, настолько она противоречит велимировской.
Не только Н.О. заразилась подозрительностью в отношении меня. Очень многие, и особенно после вечера памяти Велимира, который состоялся в Доме писателей[150].
На этом вечере выступали „многие приятели и просто живые свидетели лица Велимира. В общем, аудитория и выступления настолько были чужими делу Велимира и личности, что я воздержался от рассказов. Говорить общими фразами и обобщениями тоже не хотелось — это было бы недостойно памяти Велимира.
После закрытия собрания меня кто-то допрашивал, почему я молчал, но тут же сам деликатно подсказал ответ: „Наверно, вам еще очень тяжело говорить о смерти друга?“ „Да, — отвечаю, — это тоже правда“, которую он первый заметил“»[151].
«Мы с Н. О. Коган начали работу по изданию стихов Велимира. Вера Владимировна Хлебникова прислала нам свои воспоминания о нем, которые мы помещаем в книжечке стихов. Нужны кое-какие деньги. Леф отказывает нам в получении гонорара за помещение в их журнале поэмы Велимира [Ладомир]. Другого источника средств нет. Решили настоять на своем требовании к Лефу.
Застаем одного Брика. Он нас принимает. Я ему заявляю, что мы издаем маленький сборник стихов Велимира и нам совершенно необходимо получить с них гонорар Велимира на это дело. Сказано это было решительным тоном, не допускавшим возражения, и Брик быстро сдался и сделал соответствующее распоряжение в редакции Лефа.
Деньги были получены, и издание продвинуто. Вскоре вышла книжечка стихов Велимира Хлебникова с обложкой Борисова[152], с напечатанным в ней „вопросом в пространство“ (где „Перун и Изанаги“, „Есир“, „Каменная баба“, „Семь крылатых“, „13 в воздухе“). Тираж маленький, книжица малозаметная»[153].
Непростые взаимоотношения Хлебникова с кругом писателей, казалось, близких ему по своим художественным убеждениям, те обиды и раны, которые ему наносились, непонимание и даже пренебрежение, сквозившие в отношении к нему Крученых, Маяковского, — все это мучительно и остро воспринималось Петром Митуричем, ощущавшим себя — да и бывшим фактически — душеприказчиком Хлебникова.
«Меня часто посещал поэт Аренс. Вороватый забулдыга, бездомный и полупьяный, он являлся к нам под наплывом жажды излияний, считая свою судьбу родственной с Велимиром. <…> И вот однажды он, отклонив тему беседы о Велимире, противопоставил ему Пушкина: „Помните, например, это…“ — и начинает декламировать монолог Сальери. Действительно, прекрасная, лучшая вещь Пушкина по своему философскому содержанию. Мы теперь являемся свидетелями великой социальной драмы, в точности соответствующей этой драме Пушкина. В этой драме не так просто разворачивается сюжет, не так просты и откровенно коварны типы Сальери. Не так невинно прост и слеп в этой борьбе тип Моцарта, но борьба в этой драме также завершается гибелью.
Борьба эта между старым и новым мироощущением, миропониманием в тесном смысле современного искусства и поэзии. А так как вершиною нового понимания и чувства мира был Велимир, то вокруг него и происходила эта борьба.
Велимир не верил ни в свой, ни в чей другой гений. „Сядь рядом, побеседуй со мной, ты увидишь, что я такой же земной и простой, как и ты“, — писал он. Но драму Сальери и Моцарта он сам переживал в лице последнего. „Я жизнь пил из чаши Моцарта“. — пишет он в одном месте. „Я окружен сотнею Сальери“, — пишет он в другом месте»[154].
Как и многие близкие к Хлебникову люди, Митурич воспринимал его смерть чем-то закономерным, предрешенным. Случайная болезнь, следствие тропической малярии, подхваченной на Востоке, приобрела воистину мистический характер.
«Если он сказал: „Бритва, на мое горло!“[155] — то за словом действие было очень близко, так как у Велимира слова и поступки не расходились»[156].
Смерть Велимира Хлебникова, всего тридцати семи лет, в июне 1922 года, ощущалась, как и смерть Блока почти за год перед тем, в августе 1921-го, не просто результатом голода, тяжелой болезни, истощения сил. В ней было нечто символическое, предопределенное — финал целой эпохи, великого сгустка чувств, художественных исканий, прорывов в будущее. Конец «футуризма», имажинизма, «будетлянства»… Конец всех иллюзий и утопий революции.
Но Митурич свято верил в реальность свершений, предсказанных Хлебниковым.
«Если он обещал что-либо, то точно выполнял, если он указывал на что-либо, то указание было верным и можно было по нему действовать.
Я бы хотел знать, кто из знавших Велимира близко, сказал бы, что это не так?
Вот почему ценно каждое его слово. Оно непременно и действенно. „То, что мы сделали пухом дыхания, я призываю вас сделать железом“, — пишет он. „Когда-нибудь Большой Медведицы сойдет с полей ее пехота. Теперь лениво время цедится и даже думать неохота“[157]. Пехота будетлянская — с русских северных полей, расположенных под широтой Большой Медведицы…»[158]
Мне кажется, что Петр Митурич не мог до конца осознать, принять смерть Велимира. Он искал его живые черты, отзвуки его личности в Вере — близость с ней явилась как бы продолжением близости с Велимиром. «Наша совместная жизнь с ней является отголоском жизни Велимира. Мы непрестанно обращались к памяти и творчеству Велимира. Он продолжал быть для нас звездой руководства»[159].
Вера многими своими человеческими чертами напоминала брата. «Но самое главное в том, что она от исканий высот духа и его совершенства пришла к конкретному могуществу над природой на той же основе развития нового чувства мира, чувства непрерывности его строения»[160] — в этих словах ключ к пониманию и творчества самого Петра Митурича, и его восприятия творчества Веры Хлебниковой.
Вся их последующая жизнь в искусстве представлялась ему как служение Хлебникову, как осуществление его заветов.
П. Митурич — Екатерине Николаевне Хлебниковой. 11 сентября 1922.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых"
Книги похожие на "Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Мария Чегодаева - Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых"
Отзывы читателей о книге "Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых", комментарии и мнения людей о произведении.