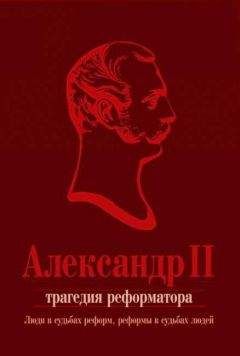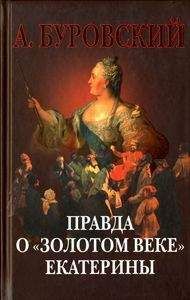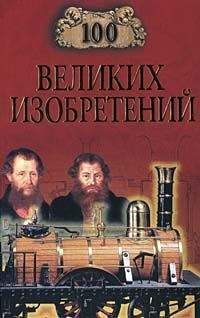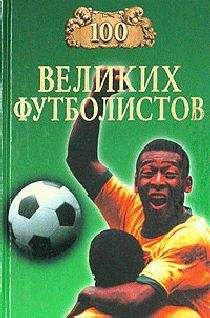Григорий Джаншиев - Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 1

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 1"
Описание и краткое содержание "Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 1" читать бесплатно онлайн.
Григорий Джаншиев одним из первых начал изучение истории судебной реформы и вообще преобразований шестидесятых годов. Различным сторонам этой эпохи он посвятил несколько крупных монографий и написал ряд биографических этюдов о выдающихся деятелях крестьянской и судебной реформы. Свои статьи он собрал в книге «Из эпохи великих реформ», которое было подготовлено и издано к 30-летнему юбилею Великих реформ (1891 г.) Далее в течение 16 лет книга выдержала десять изданий, что блестяще иллюстрирует ее популярность и значение.
«Эпоха Великих Реформ» вышла в 1892 г. и выдержала с тех пор ряд изданий, при жизни автора постепенно дополнявшихся. Эта книга была весьма популярна не только среди видных судей, юристов и видных русских деятелей, но и среди зарубежной общественности и среди широких масс. Издание сыграло серьезную общественно-воспитательную роль как единственная история реформ царствования Александра II. Девятое издание, вышедшее в 1905 году, являлось одним из самых дополненных и пересмотренных, к тому же оно стало первым изданием Литературного Фонда.
Как водится, в подмогу к трусливым причитаньям и своекорыстным обобщениям пристегивались и рассуждения об общем благе. С отменою крепостного права, по предсказаниям помещиков, в России неминуемо должен был наступить голод, вывозная торговля прекратиться и Россия снизойти до степени второстепенной державы[137]. Некоторые даже шли так далеко, что предрекали неизбежное революционное движение среди крестьян.
Расстроенное воображение душевладельцев, всю жизнь живших интересами желудка и смежных с ним органов[138], рисовало им все ужасы пугачевщины. Один из московских бар в припадке чисто животного страха так изливал свою злобу в письме к отцу:
«Петербургские реформаторы полагают, что эта реформа (крестьянская) начнется и кончится только на нас одних, что милый и интересный класс народа переведет помещиков, а своих благодетелей, т. е. высших и низших чиновников оставит в покое наслаждаться их прекрасными окладами и квартирами. Легко ошибутся, и я вполне убежден, что если буду висеть на фонаре, то параллельно и одновременно с Б-вым (Блудовым?), А-гом (Адлербергом) и прочими умными людьми»[139].
Словом, если брать не отдельные личности из среднего круга образованного дворянства и немногие местные исключения, вроде истинно благородных представителей тверского дворянства с его предводителем А.М.Унковским во главе (см. ниже), то дворянство, как целое, как сословие, оказалось решительно враждебным освобождению крестьян. Испытанный друг дворянства, товарищ министра внутр. дел Левшин, не могущий быть заподозренным в чрезмерной строгости к дворянству, так резюмирует отношение дворянства к крестьянскому делу: «Чистосердечного, на убеждении основанного, вызова освободить крестьян не было ни в одной губернии, но своими маневрами правительство приобрело возможность[140] сказать торжественно крестьянам помещичьим, что владельцы их сами пожелали дать им свободу».
Невольным благоговением проникаешься, когда от трагикомического метанья и озлобленного беснования, забывшего и свой апломб, и noblesse oblige дворянства, перейдешь к исполненному достоинства и выдержки[141], к глубокому огорчению крепостников[142], поведению многострадальных крепостных, этих «хамов», лишенных, по мнению былых и нынешних крепостников, нравственного сознанья.
С пламенным восторгом и полным единодушием приветствовала русская интеллигенция, – эта «оторвавшаяся» от народа интеллигенция, – наступающую «зарю святого искупления».
С особенным энтузиазмом и торжеством отпраздновала опубликование рескриптов московская интеллигенция на первом в России политическом банкете 28 декабря 1857 г. Связанная по рукам и ногам печать времен «российского паши», как называли гр. Закревского, не смела и думать передать охватившее общество воодушевление, и единственным доступным способом для выражения волновавшего все передовое общество восторга оказался обед по подписке, устроенный в московском купеческом клубе. Вся московская интеллигенция без различия направления собралась за одним столом, чтобы приветствовать наступившее «новое время». Консерватор-византиец Погодин, либерал-конституционалист Катков, откупщик Кокорев, забывая свое разномыслие, собрались, чтобы чествовать того, кого в своем тосте впервые проф. Бабст назвал «царем-освободителем». М. Н. Катков так определял значенье наступившей либеральной эры: «Бывают эпохи, когда силы мгновенно обновляются, когда люди с усиленным биением собственного сердца сливаются в общем чувстве. Благо поколениям, которым суждено жить в такие эпохи! Благодарение Богу, нам суждено жить в такую эпоху».
Кокорев в своей речи, между прочим, так разъяснял значенье переживаемого знаменательного исторического момента: «Свет и тьма в вечной борьбе. Одолевает свет – настают красные дни, выпрямляется человечество, добреет, умнеет, растет. Одолевает тьма– настают горькие дни, иссыхает человечество, ноет дух, умаляется сила народов. Тьмы всегда и везде боле, нежели света, но зато сила света такова, что луч его сразу освещает огромное пространство, и тьмы как будто небывало. Присутствие такого живительного света мы чувствуем теперь на самих себе, и его луч исходит прямо из сердца Александра II. Свет выразился в желании вывести наших братьев-крестьян из того положения, которое томило их и вместе с ними пас почти три века; этим светом теперь озарена и согрета Русская земля»[143].
Предполагалось повторить банкет в больших размерах в Большом театре, причем проектировалось, дабы запечатлеть в сердце юношества наступление в России новой, освободительной эпохи, пригласить гимназистов и кадет в ложи, послать приветственные телеграммы в европейские столицы, – словом, отпраздновать на весь мир, как принято в свободных странах, радостное событие предстоящего падения рабства в России…
Но распорядители праздника считали – «без хозяина»: они забыли, что в двух шагах от Большой Дмитровки сидит живое воплощение того самого «мрака», против которого они так красноречиво ратовали, – глава московских крепостников, граф Закревский, – к огорчению Александра II, сильно задержавший ходатайство московского дворянства об освобождении. Мог ли хозяин Москвы допустить в «своей» Москве столь горячий привет свету и свободе? Грубый самодур (в коронацию 1856 г. московских купцов, дававших обед Государю, Закревский выгнал на кухню, говоря, что их место там), упрямый деспот, типичный представитель старого николаевского режима подавления всякой попытки к самостоятельности, страдавший маниею политического сыска (как известно, даже на митрополита Филарета он писал доносы в III отделение), гр. Закревский пришел в негодование, узнав о демонстрации московской интеллигенции против крепостного права и в честь Александра II. Снесшись с своими достойными единомышленниками, гр. Паниным и кн. Долгоруковым, он предложил обуздать либеральных профессоров и журналистов, колеблющих основы порядка:
Стучится идея о чем-то, бишь, новом,
Задвинем-ка двери засовом!
Казалось, трудно было извратить смысл этого восторженного привета со стороны науки и печати новому царствованию. Но, к сожалению, были еще довольно сильны, к огорчению друзей свободы, традиции старого режима, сущность которого будущий министр П. А. Валуев характеризовал так: «Везде преобладает стремление сеять добро силою, везде нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания, везде противоположение правительства народу, казенного – частному, везде пренебрежение человеческой личности» и т. д.[144]
Увы! и на этот раз крепостникам и слугам мракобесия удалось одержать верх и зажать рот[145] своим противникам и даже воспретить, – едва верится! – чествование 19 февраля восшествия на престол…
Банкет был запрещен, ораторы получили выговор за вольные речи. Так неприветливо была встречена первая попытка к проявлению хоть «тени свободы»[146]…
Но, несмотря на «задвинутые засовы», несмотря на все «зигзаги» нового либерального движения, бодрое, радостное пробуждение общества, напоминавшее светлую весну, – когда силушка по жилушкам переливается, – помогло ему в союзе с прогрессивными элементами правительства вести с успехом неравную борьбу с противниками народной свободы, по рутине или своекорыстию боявшимися ее как огня.
А борьба эта действительно была неравная. На стороне рабства было высшее чиновничество, двор, знатное, богатое дворянство, и лишь небольшой слой из образованного среднего дворянства да интеллигенция[147] выступали защитниками свободы. Но повели они с этих пор дело с неослабевавшею энергиею.
С обнародованием рескриптов в Министерстве внутренних дел выдвигаются на первый план знаменитые деятели крестьянской реформы: начальник земского отдела Я. А. Соловьев[148] и Н. А. Милютин, заменивший с конца 1857 г. робкого, нерешительного товарища министра А. И. Левшина[149]. Но в особенности выдвигается вперед член секретного Комитета генерал-адъютант Я. И. Ростовцев, который делается с 1858 г. ближайшим сотрудником и доверенным лицом Александра II по крестьянскому делу.
Не отличаясь ни знатным происхождением, ни богатством, ни выдающимися умственными способностями и солидным образованием, этот в душе добрый, но далеко не твердый в принципах деятель николаевского пошиба, неожиданно[150] делается с 1858 г. под влиянием факторов, доселе не вполне разъясненных, одним из корифеев правительственных либералов, одним из важнейших представителей рационального, т. е. радикального решения крестьянского вопроса.
Раскаявшийся декабрист, быстро отличенный и вознесенный Николаем I, ловкий и гибкий царедворец, – в инструкции своей по военно-учебному ведомству открыто провозглашавший, что верховная власть, высшее начальство выше совести, есть «сама верховная совесть, долженствующая упразднить субъективные указания личной, подвижной человеческой совести», – как будто внезапно прозрел сам, убедившись в лживости этого еще так недавно официально пропагандируемого им безнравственного государственного догмата[151]. Поддался ли Ростовцев действию всесильного нового духа времени, повелительно требовавшего оглянуться вокруг, не коснеть в консервативном самодовольстве, взвесить свои отношения к людям не с точки зрения табели и установленных форм и норм, а при свете совести неумолимой, – действовали ли тут семейные влияния[152], но факт тот, что Ростовцев с половины 1858 г. делается восторженным прозелитом либерального движенья, энтузиастом крестьянского дела. Быть может, первый раз в жизни он стал думать не об угождении сильным мира сего, не о шансах карьеры своей, а о благе народа, о деле, о «святом деле», как он стал называть крестьянскую реформу. В первый раз в жизни он стал серьезно изучать порученное ему дело, и не из-за чинов и орденов, и даже не из одного угождения своему Государю, а в глубоком и благоговейном сознании великой чести и ответственной задачи, выпавшей на его долю; он вложил всю свою душу в это дело, за которое он в каком-то экстазе гражданского самопожертвования готов был пожертвовать и почти пожертвовал жизнью[153]. У Ростовцева замелькала черта, столь драгоценная во всяком государственном человеке, «черта, – по замечанию одного из участников крестьянской реформы, – довольно редкая у нас, в людях, достигших высших государственных ступеней – Ростовцев думал об истории, верил в верховный суд, мечтал о почетной для себя странице на ее свитках»[154].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 1"
Книги похожие на "Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Григорий Джаншиев - Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 1"
Отзывы читателей о книге "Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 1", комментарии и мнения людей о произведении.