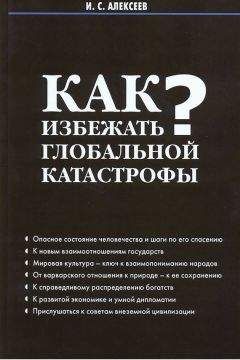Вольфганг Киссель - Беглые взгляды

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Беглые взгляды"
Описание и краткое содержание "Беглые взгляды" читать бесплатно онлайн.
В европейских литературах жанр травелога (travelogue, англ. — повествование о путешествии) занимает центральное место с самого начала Нового времени. Эта книга предлагает широкий спектр новых прочтений русских травелогов первой трети XX века, охватывая произведения А. Чехова, В. Розанова, М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Белого, В. Шкловского, И. Эренбурга, Г. Иванова, М. Горького, А. Платонова. Основное внимание уделяется травелогам в границах или на границы советской империи, однако представлены и те, в которых речь идет о впечатлениях русских писателей в Западной Европе. Название «Беглые взгляды», с одной стороны, подразумевает историческое состояние бегства, в которое были ввергнуты люди вследствие Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны в России, с другой стороны — акцентирует эстетическую и поэтологическую «беглость» травелогов модернизма, их ассоциативный и коннотативный потенциал. Так возникает новый образ жанра травелога и его эволюции в русской литературе.
Признаком литературности текста, служащим, в частности, сохранению уже описанного соотношения между аутентичностью и условностью, служит, как правило, и ввод метатекстуального комментария: «про войну писать очень трудно…» (С. 73); «Но буду говорить. Попробую рассказать, как я понял все, что произошло» (Там же); «Я хочу рассказать о стране, где я оказался» (С. 93); «Кстати, об оружии» (С. 120); «Да, еще два слова прежде» (С. 122); «Но я отвлекся» (С. 123). Это «обнажение приема» в формалистском смысле — как у Лоренца Стерна, к роману которого «Тристрам Шенди» Шкловский обращался, разрабатывая свою теорию[308]. В этом отношении намек на другой роман Стерна, «Сентиментальное путешествие во Францию и Италию», можно истолковать как обозначение названия и ссылку на него, даже если функции «обнажения приема» очень различны: пародийны у Стерна и конструктивны у Шкловского[309].
Дистанция между ними появляется по той причине, что Стерн и его подражатели следовали своим душевным впечатлениям — конкретные, часто мимолетные переживания или встречи служили предметом рассказа; но Шкловский в своих текстах избавлялся именно от личных впечатлений, насколько это было возможно. Их место могла занять авторская ирония, которая тоже присутствует у Стерна, но опять-таки в иной функции. Там она определяется избытком духовной жизни, в то время как Шкловский пользовался иронией в том смысле, как ее понимал его самый одаренный ученик Данило Киш. Он заявлял: «Я не выношу литературы без иронии. Все-таки ирония единственное средство от ужаса существования. И в писательстве она необходимая приправа. Иначе выходит то сентиментально, то слезливо»[310].
Здесь достаточно двух примеров. Лаконичное сообщение о том, что Халил-паша «перед отходом из Эрзерума закопал четыреста армянских младенцев в землю», рассказчик дополняет одним предложением: «Я думаю, это по-турецки значит „хлопнуть дверью“» (С. 128), где, собственно говоря, опять отразился стереотип в восприятии Востока. В другом месте он изображает своего шофера, потрясенного видом валяющихся прямо на дороге трупов местных жителей, расстрелянных русскими солдатами без всякого повода: «Шофер осторожно вел машину /…/ Ему было тяжело, у него были шоферские нервы. Шоферы нервны» (С. 114). Подобные спорадические комментирования созвучны открытой полемике, направленной против «автоматизированных» литературных клише в изображениях войны (ср. с. 73). За этим скрывается, как позднее у Киша, этический аргумент: война, страдание, голод, ранение, смерть и т. п., становясь предметом условного «беллетристического» изображения, теряют трагизм. Подобный авторский подход позволяет добавить: ирония служит автору дистанцией, психологической самозащитой от ужасов войны[311].
IV. Конструирование собственного Я
Перелом ситуации в 1917 году воспринимается автором «Сентиментального путешествия» как кризис собственного Я. Это проявляется в коротком замечании, объясняющем его добровольный отъезд в оккупированный район Персии: «Тоска вела меня на окраины, как луна лунатика на крышу» (С. 85). Понятие «тоска» включает в себя не только «Kummer» (печаль), как это дается в немецком переводе[312], но и «Sehnsucht» (стремление) — но стремление куда? С психологической точки зрения можно объяснить путешествие как попытку избавиться от травмы фронтовых впечатлений, так как оно отвечает потребности двигаться во время быстрых исторических перемен и, соответственно, противопоставить свое движение воспринимаемому в качестве стагнации бездействию в определенных политических сферах Петрограда осенью 1917 года. Приведенной выше цитате не случайно предшествует образ автомобиля, застрявшего в снегу или грязи, который призван наглядно продемонстрировать тщетность энергичных усилий генерала Военного министерства (С. 85). Возможно, для Шкловского-теоретика кроется за этим перелом еще более значительный, чем просто политическая революция: иная оценка прежде позитивно воспринимаемого модернизма как негативного или, по крайней мере, амбивалентного феномена. Если «переворот в восприятии осуществляется движением пара»[313], то уже сам взгляд из современного транспортного средства — выражение модерна. С точки зрения формализма, железная дорога и автомобиль становятся концептом нового зрения. Проблема возникает тогда, когда средство передвижения застревает, развитие стагнирует, движение ведет в никуда в том смысле, что все «военные дороги тупики» (С. 112).
Таким образом, путешествие представляет собой лишь парадоксальную попытку рассказчика снова приобщиться к динамике модернизма и одновременно избавиться от нее. Здесь опять обращает на себя внимание этап путешествия после пересечения персидской границы. Особенно значимо замедление темпа движения при подъеме поезда в горы, затем еще более медленная переправа через Урмийское озеро (конечно, на пароме, двигавшемся благодаря все той же паровой тяге) и, наконец, преодоление последнего отрезка пути в конном обозе, когда рассказчик чувствует себя перенесенным в домодернистский контекст, в то время как пустынный ландшафт служит пространственным отражением его душевного состояния. В конце концов он прибегает к совершенно архаической форме передвижения, когда после поломки автомобиля продолжает свой путь пешком по дороге, усеянной костями погибших лошадей и верблюдов (С. 139)[314]. В таких эпизодах путешествие становится и путешествием во времени, путешествием в прошлое, где, конечно же, невозможно долго оставаться. Таковы и другие дороги, по которым он двигался во время пребывания в Персии, — «тупики войны». Возвращение с окраины в центр обусловлено не только Октябрьским переворотом и последующим выводом войск, но и убеждением рассказчика, что дорога в Персию в конечном итоге его никуда не привела. Он снова относит себя к армии крыс с ее бессознательным движением: «Пестрой крысой прошел я дорогу от Ушнуэ до Петербурга» (С. 266).
Б. «Мимикрия»В одном месте, не относящемся к главе «Персия», Шкловский описывает свою способность к перемене идентичности, к превращению в то, чего требуют обстоятельства, — свойство, важное для выживания в военное время:
Я, если бы попал на необитаемый остров, стал бы не Робинзоном, а обезьяной […] Я умею течь, изменяясь, даже становиться льдом и паром, умею внашиваться во всякую обувь. Шел со всеми (С. 174)[315].
Разумеется, здесь имеется в виду не полное превращение, но форма мимикрии, как ее описал Хоми Баба (со ссылкой на Жака Лакана) в контексте (пост)колониализма[316]. При всех различиях, которые можно заметить между двумя конкретными феноменами, есть между ними и примечательные общности. В условиях колониализма, как и в индивидуальном случае Виктора Шкловского, речь идет о стратегии самосохранения и самоутверждения. Шкловский был к этому генетически предрасположен, не раз возвращаясь к своему еврейско-немецко-русскому происхождению[317], в том числе и в связи с дискриминацией евреев в русской армии (С. 79). В силу своего происхождения, смешавшего три культуры, Шкловский был особенно склонен к мимикрии, что в условиях общественных переломов могло лишь обострить проблему идентичности. И в этом смысле путешествие в Персию стало попыткой самоутверждения. Неоднократно подчеркиваемое родство с Востоком, в особенности с новыми ассирийцами, имеет те же причины. Рассказчик подчеркивает, что на Востоке нет антисемитизма, что в разговоре с ассирийцами проявляется общее ощущение непрерывной традиции (С. 122). Без сомнения, для него очень привлекательна мысль об общих корнях, о тысячелетней общей истории; вместе с тем он дистанцируется от новых ассирийцев, указывая на их ошибочное мнение, будто они потомки древних ассирийцев, на самом же деле они происходили от евреев-арамейцев. За этим кроется невысказанное прозрение автора, что даже «Восток» не может дать ему стабильной идентичности.
V. Заключение
После всего сказанного совершенно ясно, что слово «путешествие» в заглавии книги следует понимать в метафорическом смысле, хотя в главе «Персия» речь идет о конкретных впечатлениях. Безусловно, путешествие не может более выполнять воспитательную функцию, следуя карамзинской традиции. Этому препятствуют как лежащее в его основе экзистенциональное мироощущение, так и сам материал, приемы его подачи. На непосредственную связь фактографического приема с «приемом остранения экзистенциональной практики»[318] указал еще А. Ханзен-Леве: бессюжетность соотносится с «распадом жизненных связей, существования, отношений между людьми», отказ от каузальных и психологических формулировок с «экзистенциональной децентризацией человека»[319]. Внутреннее состояние рассказчика отражает исторические кризисы и переломы — мировую войну, Февральскую революцию, Октябрьский переворот — и наоборот. Связанный с этим способ восприятия (Я — в движении, в перемене ролей, в фрагментарности[320] и т. п.) проявляется в тексте и как предмет, и как принцип изображения. Но приемы служат не просто отражению действительности, а конструированию собственной биографии. «Надо не историю делать, а биографию», — заявляет рассказчик (С. 114). И если он прямо не говорит о писательстве, то имеет в виду именно написание (авто)биографии. Обобщая, можно сказать: «в автобиографических записках переживание не воспроизводится, оно скорее порождается»[321], и утверждение это переносится на «Сентиментальное путешествие» в том смысле, что в основе текста как автобиографии лежит концепция, противоположная «литературе факта». Привносимые при этом структуры возникают из позиции, которая не является статичной и ретроспективной, но мыслится как бы в потоке, в непосредственном продолжении пишущегося отрезка жизни. «Камень, который падает и может в то же время зажечь фонарь, чтобы наблюдать свой путь» (С. 142) — говорится в начале фрагмента «Письменный стол». Реализация самонаблюдения в тексте происходит по принципу «формалистского витализма»[322]: он является стратегией самоутверждения автора, внутренний кризис которого стал его темой[323]. Итак, можно заключить: это не путешествие, с помощью которого рассказчик/автор преодолевает свой внутренний кризис, это написание «Сентиментального путешествия».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Беглые взгляды"
Книги похожие на "Беглые взгляды" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вольфганг Киссель - Беглые взгляды"
Отзывы читателей о книге "Беглые взгляды", комментарии и мнения людей о произведении.