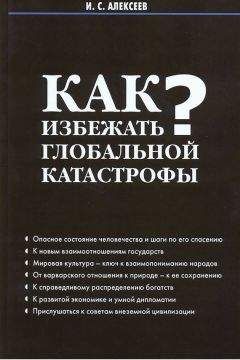Вольфганг Киссель - Беглые взгляды

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Беглые взгляды"
Описание и краткое содержание "Беглые взгляды" читать бесплатно онлайн.
В европейских литературах жанр травелога (travelogue, англ. — повествование о путешествии) занимает центральное место с самого начала Нового времени. Эта книга предлагает широкий спектр новых прочтений русских травелогов первой трети XX века, охватывая произведения А. Чехова, В. Розанова, М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Белого, В. Шкловского, И. Эренбурга, Г. Иванова, М. Горького, А. Платонова. Основное внимание уделяется травелогам в границах или на границы советской империи, однако представлены и те, в которых речь идет о впечатлениях русских писателей в Западной Европе. Название «Беглые взгляды», с одной стороны, подразумевает историческое состояние бегства, в которое были ввергнуты люди вследствие Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны в России, с другой стороны — акцентирует эстетическую и поэтологическую «беглость» травелогов модернизма, их ассоциативный и коннотативный потенциал. Так возникает новый образ жанра травелога и его эволюции в русской литературе.
Подобное объявление третьей позиции прослеживается и в других местах текста. Например, в том же очерке: с подозрением воспринятая попутчиками «большевистская» короткая «мужская» стрижка[278] вначале характеризуется как «модная» и тем самым становится приметой современной молодой горожанки, которая идет в ногу со временем, перенимает мужское поведение и самостоятельно отправляется в путешествие во время Гражданской войны. В особом примечании, явно добавленном позднее, Цветаева переносит атрибут прогрессивного, «модного» поведения из гендерной парадигмы, утверждающей исторические нововведения, в парадигму критики времени. Но новое объяснение оказывается алогичным — оно анахроническое: короткие волосы якобы были предчувствием невольной моды на короткие прически во время эпидемии тифа, свирепствующей в последующие годы, о которых путешественница в момент записи знать еще не может[279]. Здесь Цветаева показывает себя как человек, который не выступает за или против, но стоит над временем, найдя свое место по ту сторону моды и предписываемых полом ролей. Насколько трудна такая позиция, не в последнюю очередь демонстрируется приписываемой ей «смертельной» семантикой («тиф»).
Путевые очерки Цветаевой как результат этой стратегии ни в коей мере не демонстрируют надежность и стабильность новой субъектной позиции женщины-путешественницы. Напротив, Цветаева заявляет о своем «положении хуже вдовьего» — с одной стороны, она более не соответствует партнеру-мужчине: «Ни мужу не жена, ни другу не княжна» (С. 428); с другой стороны, она еще не обрела позицию, которую можно было бы определить позитивным образом как «свое»: она «не персияночка […] но […] и не русская» (С. 442). В ситуации проблематичной идентичности Цветаева открывает для себя третью субъектную позицию, непостижимую с точки зрения дихотомии: «Я до-русская, до-татарская» (С. 442). Во время своего путешествия на чужую территорию писательница стремится в каждой ситуации превратиться в «чужую», радикально другую, довременную («довременная Русь я…» — С. 442) — и таким образом вырваться, «выписаться» из смут времени, утратившего связь и порядок.
Эта «другая» идентичность, очень личная, трагическая стратегия выживания достигается путем самоисключения как реакции на исключенность. Такая стратегия небезопасна и периодически ставит под угрозу физическое существование Цветаевой[280]. Это соответствует опыту, который она приобретает в исключающем ее «адском» пространстве нового, советского времени. Постоянная смена ролей с ее мнимо игривым характером является на самом деле средством самоутверждения, несмотря на иногда крайне опасные ситуации. Вольно или невольно, перед «разбойником» и «разбойниковой женой» Цветаева изображает барышню, перед спутниками — благополучную аристократку; то она, со своими антисемитскими речами, попадает под подозрение как подстрекающая к погрому, а потом называет себя еврейским именем, то выступает в роли красного агента или воображает себя белой партизанкой. Играя антагонистические роли, Цветаева в конечном итоге избегает вхождения в какое-либо объединение — она все время другая. Нов любом случае платит за это высокую цену, цену абсолютного одиночества: даже там, где она пытается сблизиться с людьми, ее гонят прочь. Крестьянки, к которым она, со своей любовью к янтарю, чувствует себя ближе всего, несмотря на «расстояние в 1000 верст», смеются над «госпожой», пытающейся уподобиться им при помощи маленького жеста — украшения. «Смелая барышня» — «всячески пария»:
Всячески пария: для хамки — «бедная» (грошовые чулки, нет бриллиантов), для хама — «буржуйка», для тещи — «бывшие люди», для красноармейцев — гордая стриженая барышня (С. 435).
В многостороннем познании «другого», свойственном путешествию как таковому, и во времена Гражданской войны — особенно, пишущая путешественница постоянно проявляет себя в ролевых играх как радикальный аутсайдер. В историческое время «исключений» Цветаева рискованным образом предвосхищает своим «путешествующим театром» место «чужого» и тем самым превозмогает слом всех устоев, чтобы позднее, после реставрации тоталитарного режима, в трагическом завершении путешествия все-таки пасть жертвой нового порядка[281].
Кристина Гёльц (Берлин)III. Дороги бегства: путешествия на периферию империи
Дороги странствующих крыс:
образ Персии в «Сентиментальном путешествии» Виктора Шкловского
I. Предварительные замечания
«Персией» Виктор Шкловский назвал третью и последнюю часть своей первой книги воспоминаний «Революция и фронт». Она появилась в Петрограде летом 1919 года и вошла наряду с зарисовками из финской и берлинской ссылки в том «Сентиментальное путешествие»[282]. Двойственный характер «Сентиментального путешествия» (личный путевой отчет, с одной стороны, и художественный текст — с другой) позволяет рассматривать изображение Персии в специальном ракурсе, в качестве конструкта («конструктивного акта»), как это и подразумевает презентация реального пространства в текстах[283]. Пространство является здесь не только миметическим представлением реально познанного пространства — это и «литературное пространство», то есть «медийное средство для наглядной демонстрации внепространственных аспектов»[284]. Иначе говоря, у Шкловского образ Персии, о котором пойдет речь, вполне соответствует географической карте, его можно проиллюстрировать фотографиями того времени — как это и делает новейшее издание, — однако он читается как метафора, эссе об исторической ситуации. Причем этот образ выходит за границы обозначенного в тексте дискурса, идет далее к концептам культуры, в особенности к аспектам культурной идентичности, причем с характерными обращениями к биографии самого автора. Ключ к прочтению подобного текста предоставляют метафоры, содержащиеся в нем.
Последнюю часть главы о Персии в воспоминаниях о Гражданской войне Виктор Шкловский начинает весьма неожиданно — с многозначительного экскурса о нашествии крыс на Европу в XVIII веке, явного парафраза из «Жизни животных» А. Э. Брема:
В тысяча семьсот котором-то году, кажется, при Екатерине I — для них это не важно, — пестрые крысы из среднеазиатских степей, собравшись в стаи, толпы, тучи, переселились в Европу.
Они шли плотной, ровной массой. Хищные птицы, собравшись со всего света, летали над ними; тысячи погибли, погибли миллионы, сотни миллионов шли вперед. Они дошли до Волги, бросились и переплыли. Река сносила их, вся Волга до Астрахани пестрела трупами; но они переплыли ее и вступили в Европу.
Они заняли все, рассеиваясь и становясь невидимыми (С. 129).
Так Шкловский приступает к своему отчету о начавшемся в конце 1917 года отступлении русских войск из занятых ими северо-восточных районов Персии, за что он нес ответственность как армейский комиссар Временного правительства. В «крысах» мы без труда узнаем захватчиков — бывшие части царской армии, которые заняли, согласно договору с Великобританией (1907), северо-восток страны и сыграли в последующие годы сомнительную (и непоследовательную) роль в столкновениях между сторонниками конституции и реакционерами.
Этот образ не только выражает иронию и самоиронию относительно дискредитации русской армии, но является метафорой колонизации Европы Азией, что, переворачивая географическое направление русской экспансии, также придает изображаемому иронический акцент. Однако в этой цитате скрыты еще более богатые и далеко идущие ассоциативные связи.
Особо значимыми представляются следующие аспекты:
1. Обозначение важных для культурологического рассмотрения ключевых понятий: отношений между Европой, Россией и Востоком (и связанных с ними культурных моделей), таких концептов, как центр и периферия, граница/переход границы, а также феномен империализма. Все это означает, что анализу подлежит конкретный образ Персии (собственно говоря, лишь самого ее северо-запада) как ландшафт, район русской оккупации, мультиэтническое пространство, как часть «Востока»; при этом следует проследить соотношение между стереотипами в его восприятии и индивидуальными впечатлениями от него[285].
2. Каждая «крыса» метафорически представляет индивидуум в истории, конкретного солдата оккупационной армии, для которого смысл и цель его передвижения остаются неведомыми, — что для изобразительного метода рассказчика, являющегося частью этого передвижения, имеет очевидные последствия. Вообще здесь правомерно задать вопрос о связи средств передвижения и восприятия, о восприятии и изображении, определив при этом соотношение принципов «литературы факта» и формальной школы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Беглые взгляды"
Книги похожие на "Беглые взгляды" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вольфганг Киссель - Беглые взгляды"
Отзывы читателей о книге "Беглые взгляды", комментарии и мнения людей о произведении.