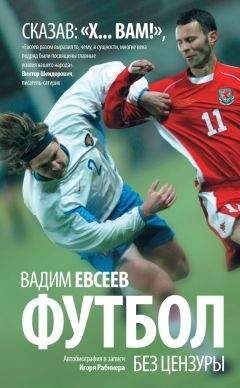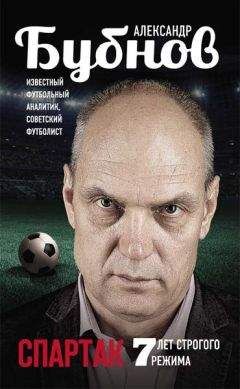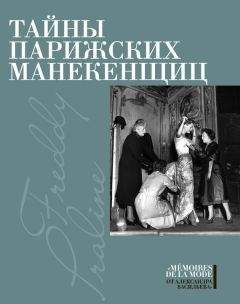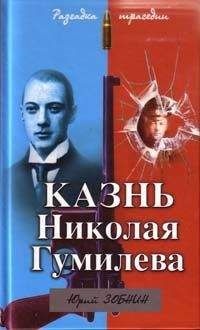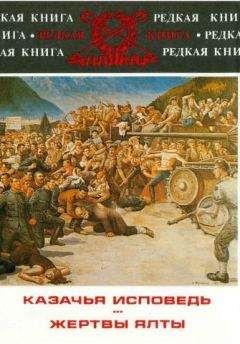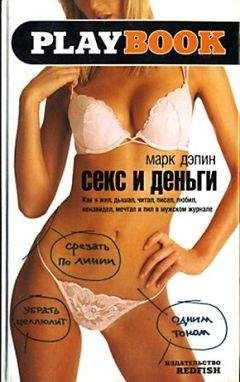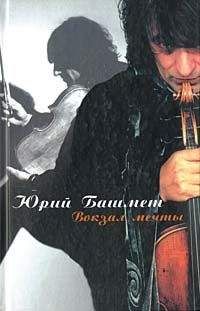Юрий Зобнин - Николай Гумилев
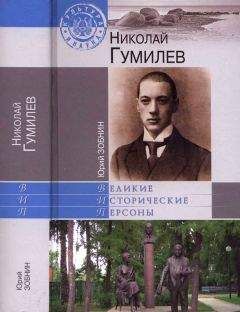
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Николай Гумилев"
Описание и краткое содержание "Николай Гумилев" читать бесплатно онлайн.
Долгое время его имя находилось под тотальным запретом. Даже за хранение его портрета можно было попасть в лагеря. Почему именно Гумилев занял уже через несколько лет после своей трагической гибели столь исключительное место в культурной жизни России? Что же там, в гумилевских стихах, есть такое, что прямо-таки сводит с ума поколение за поколением его читателей, заставляя одних каленым железом выжигать все, связанное с именем поэта, а других — с исповедальным энтузиазмом хранить его наследие, как хранят величайшее достояние, святыню? Может быть, секрет в том, что, по словам А. И. Покровского, «Гумилев был поэтом, сотворившим из своей мечты необыкновенную, словно сбывшийся сон, но совершенно подлинную жизнь. Он мечтал об экзотических странах — и жил в них; мечтал о немыслимо-ярких красках сказочной природы — и наслаждался ими воочию; он мечтал дышать ветром моря — и дышал им. Из своей жизни он, силой мечты и воли, сделал яркий, многокрасочный, полный движения, сверкания и блеска поистине волшебный праздник"…
С другой стороны, и в интеллигентской среде уже с 1890-х годов все яснее проявлялся интерес и сочувствие к Церкви, прежде всего в кругах, близких к петербургским модернистам, душою которых были Мережковские и В. В. Розанов. Горячность этих «неслыханных» бесед обуславливалась в немалой степени тем, что обе стороны, если не умом то сердцем, ощущали крайнюю необходимость в согласии с противной стороной как для собственного существования, так и для судеб всей России. Уже в эмиграции, пережив кошмар 1917–1919 гг., Зинаида Николаевна Гиппиус писала, что если бы союз интеллигенции и Церкви тогда, на рубеже веков в России, был заключен, то «может быть, Церковь не находилась бы сейчас в столь бедственном положении, а интеллигенция не вкушала бы сейчас горечь изгнания» (см.: Религиозная жизнь и культурное наследие России. Православие в России. М., 1995. С. 102).
И все же, хотя, казалось, все мыслимые положительные предпосылки для заключения союза были налицо, истинным результатом этих добровольных совместных усилий стал не приход интеллигенции в Церковь, а, наоборот, новое, небывалое еще в истории России, уже не общественное, а религиозное отчуждение демократической интеллектуальной элиты страны от Православия. Стало гораздо хуже: если раньше, в XIX веке интеллигенция обладала хотя бы формальной «воцерковленностью» — в виде уступки «народным традициям» и «гражданской необходимости», — то теперь наступает период принципиального разрыва, выхода из церковной ограды — по соображениям совести. На это особо обращал внимание в речи, открывавшей «Гумилевскиечтения» 1996 года, академик А. М. Панченко: «Церковь расходится со светским обществом. А вот к концу XIX века наступает перелом, стремление к какой-то религиозности, среди людей общества. Ведь вообще “серебряный век” — это очень религиозно окрашенный век. Я не имею в виду, что эта религиозность — православная; но несомненно то, что интеллигенция — и прежде всего интеллигенция — начинает тянуться к вере. […] Тогда же обер-прокурор разрешает религиозно-философские собрания. Там интеллигенты и церковники собираются, знакомятся…[…] Там выступают Мережковский, Розанов… Но из этого ничего не выходит, и через два года тот же обер-прокурор синода, К. П. Победоносцев, эти собрания запрещает. И все равно религиозная тоска в обществе проявляется сильней и сильней и — ищет выхода. Причем, наряду с мистикой, столоверчением, кликушеством происходит какое-то бегство из Церкви. Это бегство — явление очень интересное. Были, конечно, люди с простой и ясной верой, с теплой душой — вроде о. Иоанна Кронштадтского, но и не случайно возрастали среди них будущие “обновленцы”, например, знаменитый “живоцерковник” Александр Введенский, будущий прихвостень советской власти; тут же и Распутин со всей своей “свитой”. В каких уродливых формах воплощается религиозное рвение! Прежде всего, в сектантстве: духоборы, молокане, тот же Лев Толстой и “толстовцы”… Тут сказали свое слово и писатели “серебряного века”» (Панченко А. И. «Серебряный век» и гибель России. Речь, произнесенная 15 апреля 1996 г. на открытии конференции // Гумилевские чтения. СПб., 1996. С. 7–9).
И ведь действительно — сказали.
«Чего только не проделывали мы за последние годы с нашей литературой, — сетовал И. А. Бунин, — каким богам не поклонялись?.. Мы пережили и декаданс, и символизм, и натурализм, и порнографию, и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и “полеты в вечность”, и садизм, и приятие мира, и неприятие мира… Это ли не Вальпургиева ночь!» (Бунин И. А. Собрание сочинений. М., 1967. Т. 9. С. 529). Заключительную метафору следует признать по-бунински удачной. Традиционная, в общем, для русской демократической творческой интеллигенции XIX века антицерковная фронда превращается в русском модернизме в сознательную ересь и кощунство — явление в отечественной литературе невиданное. До этого момента оппозиция по отношению к Церкви выражалась в светском интеллигентском творчестве, преимущественно в презрительном игнорировании форм религиозной жизни как «предрассудков отсталого народа», неактуальных для просвещенного художественного мировосприятия, либо в критике общественно-порочной позиции духовенства (в нелегальной революционной литературе) — при подчеркнутом пиетете собственно к догматике и этике православного вероучения. «Представителей интеллигенции привлекала в христианстве идея служения и жертвенности, но сама Церковь, как учреждение “казенного ведомства”, вызывала у них недоверие» (Религиозная жизнь и культурное наследие России. Православие в России. М., 1995. С. 100). В эпоху Серебряного века речь уже не шла об определении личной позиции по отношению к Церкви — негативной или позитивной, — речь шла о преодолении «старой», «традиционной» воцерковленности и создании «нового религиозного сознания» как альтернативы «сознанию старому», т. е. православному. «Из попыток найти собственные, не зависимые от Церкви пути к духовному обновлению, — вспоминает А. Н. Бенуа, — мне особенно запомнилась одна. […] Собрались мы у милейшего Петра Петровича Перцова, в его отдельной комнате. Снова в тот вечер [Д. В.] Философов стал настаивать на необходимости произведения “реальных опытов” и остановился на символическом значении того момента, когда Спаситель, приступая к последней Вечери, пожелал омыть ноги своим ученикам. Супруги Мережковские стали ему вторить, превознося этот “подвиг унижения и услужения” Христа, и тут же предложили приступить к подобному омовению. Очень знаменательным показался мне тогда тот энтузиазм, с которым за это предложение уцепился Розанов. Глаза его заискрились, и он поспешно “залопотал”: “Да, непременно, непременно это надо сделать и надо сделать сейчас же”. Я не мог при этом не заподозрить Василия Васильевича в порочном любопытстве. Ведь то, что среди нас была женщина, и в те времена все еще очень привлекательная, “очень соблазнительная Ева”, должно было толкать Розанова на подобное рвение. Именно ее босые ноги, ее “белые ножки” ему захотелось увидать, а может быть и омыть. А что из этого получилось бы далее, никто не мог предвидеть. Призрак какого-то “свального греха”, во всяком случае, промелькнул перед нами, но спас положение более трезвый элемент — я да Перцов… Розанов и после того долго не мог успокоиться и все корил нас за наш скептицизм, за то, что мы своими сомнениями отогнали тогда какое-то наитие свыше» (Бенуа А. Н. Религиозно-философское общество. Кружок Мережковских. В. В. Розанов // Василий Розанов: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. C. 136–137).
Это, конечно, кощунственное пародирование православной обрядности (обряд «омовения ног» в Страстной Четверг существует в Церкви), но все-таки это всего лишь попытка «православного модернизма», на большее кружок Мережковских не посягал. А вот Н. М. Минский пошел дальше и создал, по следам древних гностиков, свою собственную религию «мэонизма» (т. е. религию «отрицательного» восприятия Бога, религию «Небытия»), снабдив ее такой обрядностью, что даже объект «мистического вожделения» Розанова — З. Н. Гиппиус — была шокирована: «… Он утешался устройством у себя каких-то странных сборищ, где, в хитонах, водили будто бы хороводы, с песнями, а потом кололи палец невинной еврейке, каплю крови пускали в вино, которое потом и распивали. Казалось бы, это ему и некстати, и не по годам — такой противный вздор…» (Гиппиус З. Н. Живые лица. Воспоминания. Кн. 2. Тбилиси, 1991. С. 251 (Век XX. Россия — Грузия: сплетение судеб).
И «радения» на «башне» Вяч. Иванова, и «агапы» у Мережковских, и «мэонистические» эксперименты на квартире Н. М. Минского, и «мистическая эротика» «соловьевцев» A.A. Блока и Андрея Белого — все это несомненные попытки создания особой религиозной «соборности» вне церковной ограды, т. е. попытки созидания «новой церкви», сознательный еретический раскол. Отсюда и напряженный интерес творческой интеллигенции Серебряного века к российским сектантам, прежде всего к хлыстам (см. капитальное исследование А. Е. Эткинда «Хлыст. Русская литература и секты» (М., 1998). Причем если в деятельности «пионеров» русского модернизма эта еретичность (без кавычек), в общем, затушевана, с одной стороны, тезисом свободы светского художественного творчества, а с другой — известным личным расположением хотя бы к эстетике «старой» Церкви, то их духовные дети — неофиты «нового религиозного сознания» — были, как и все неофиты, гораздо откровеннее и резче в неприятии всего, что связано с враждебным вероучением, чем отцы-основатели. «… Не мальчишество, не ребячливость, не декадентский демонизм, но моя кровь говорит мне, что […] всякое уничтожение и унижение личности — дело страшное, — писал Блок В. В. Розанову 17 февраля 1909 г., — и потому я […] не пойду к пасхальной заутрене к Исакию, потому что не могу различить, что блестит — солдатская каска или икона, что болтается — жандармская эпитрахиль или поповская нагайка. Все это мне по крови отвратительно. Что старому мужику это мило — я не спорю, потому что он уже давно раб, а вот молодым, я думаю, все это страшно, и тут — что народ, что интеллигенция — вскоре (как я чаю и многие чают) будет одно» (Блок A.A. Собрание сочинений. В 8 т. М.—A., 1963. Т. 8. С. 274–275. Курсив автора).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Николай Гумилев"
Книги похожие на "Николай Гумилев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Зобнин - Николай Гумилев"
Отзывы читателей о книге "Николай Гумилев", комментарии и мнения людей о произведении.