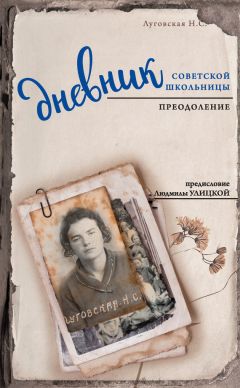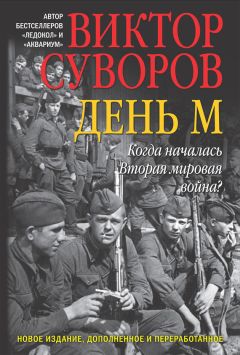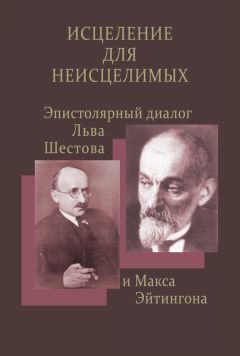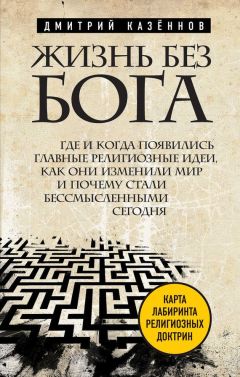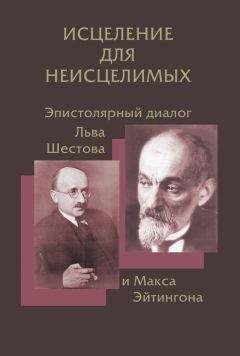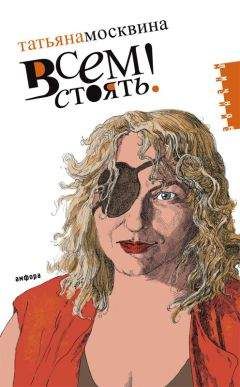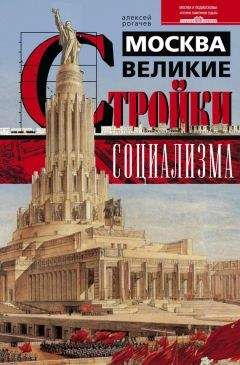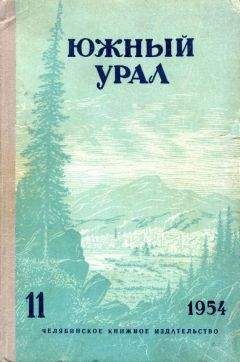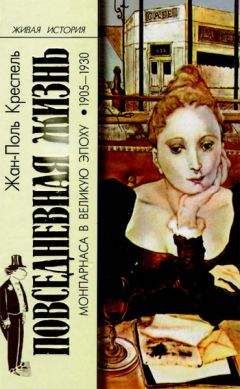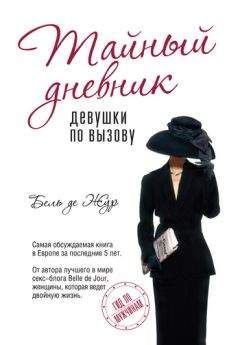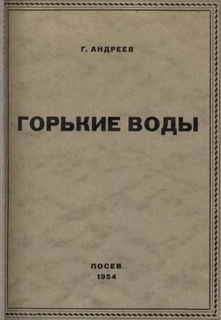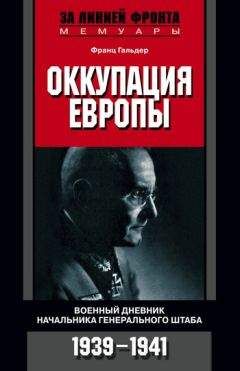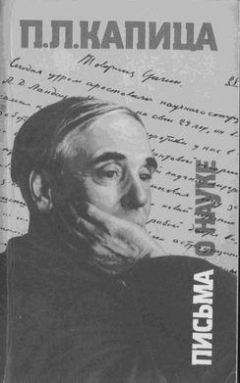Варвара Малахиева-Мирович - Маятник жизни моей… 1930–1954

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Маятник жизни моей… 1930–1954"
Описание и краткое содержание "Маятник жизни моей… 1930–1954" читать бесплатно онлайн.
Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович (1869–1954) прожила долгую жизнь и сменила много занятий: была она и восторженной революционеркой, и гувернанткой в богатых домах, поэтом, редактором, театральным критиком, переводчиком.
Ее “Дневник”, который она вела с 1930 по 1954 год, с оглядкой на “Опавшие листья” Розанова, на “Дневник” Толстого, стал настоящей эпической фреской. Портреты дорогих ее сердцу друзей и “сопутников” – Льва Шестова, Даниила Андреева, Аллы Тарасовой, Анатолия Луначарского, Алексея Ремизова, Натальи Шаховской, Владимира Фаворского – вместе с “безвестными мучениками истории” создавались на фоне Гражданской и Отечественной войн, Москвы 1930-1950-х гг. Скитаясь по московским углам, она записывала их истории, свою историю, итог жизни – “о преходящем и вечном”.
Уползла сегодня сюда, как старый больной зверь в надежное логовище, где никто не тронет. Трудной показалась беседа с милой Н. В. и ее приятельницей, трудна перспектива слушать стихи Ириса. И от столь любимого добровского дома отказалась на этот вечер. Нет сил. И железы мешают глотать и дышать. В разгаре домкомных неувязок (с карточками) зашла к Ефимовым, чтобы не уезжать далеко от своего застенка. И чтобы с ними и среди их картин и скульптуры очиститься от грубости и “классовой ненависти”, какой встречают в нашем домкоме всех, кто имеет несчастье не принадлежать к рабочему классу. Впрочем, и “своих” они тоже ругают при случае еще забористее.
У Ефимовых, несмотря на их исключительный эгоцентризм, самоутверждение и славолюбие, чистый воздух, провеянный аристократичностью их мировосприятия и отсутствием мещанства. С ними легко и просто, как с хорошими детьми. Обаятельность Ивана Семеновича в его красоте – теперь уже старческой, но еще без заметных следов разрушения (первая старость бывает еще красивой и внешне); в гармонии с этой мощной красотой (соединяющей с мужским богатырством и что-то детское, особенно во взгляде васильково-синих глаз) и творческий поток его внутреннего существа. Недаром он творит зверей, зверь у него из первобытного Эпоса – человекоравный, мудрый, полный стихийных сил и, может быть, оборотень. И так близко это к детскому восприятию мира. К тому, как трехлетний Сережа (мой), подойдя в зоологическом саду к медведю, первый раз в жизни увиденному в натуре, сказал: “Здравствуй, Мишка. Вот мы к тебе пришли. Ты совсем не страшный, только очень большой”.
Ефимовские звери не страшны. С ними можно говорить, только, разумеется, не на интеллигентском языке, а как говорил Сережа. И в этом разговоре с ними, и с куклами, и с картинами Нины Яковлевны так отдохнула душа. Это ведь тоже одно из моих души-отечеств, мимо которого, лишь краешком его задевая, я прошла на этом свете: картины, скульптура, игрушки.
Этого душе-отечественного элемента, неуловимо тонкого воздуха искусства, излучающегося из всех пор существа, у Нины Яковлевны еще больше, чем у ее красавца мужа. И этим некрасивая смолоду и поблекшая соответственно со своими 56-ю годами Н. Я. обаятельно прекрасна; настолько, что и неправильные серые оплывшие черты ее лица, освещенные извнутри, воспринимаются как своеобразная красота, на которую радостно смотреть и которую приятно вспоминать. Ничего не хотелось бы изменить в этом лице с набухшим семитическим носом, с вытянутыми губами. Н. Я. из тех редких людей, каждого слова которых, каждого душевного движения ждешь как своеобразного, значительного и милого.
31 июля. 1-й час ночи. Надвигается гроза Москва. Комната Нины ВсеволодовныС П. А. неожиданная встреча, малоразговорная, но вся напоенная чем-то хорошим-хорошим, самой высокой пробы. Отдохнули с ним от фантастически суматошного и невыносимо грубого дня. Целый день трамваи и метанья между распределителем и домкомом. Облеченное доверием домкомное начальство в лице наэлектризованного классовой ненавистью рабочего обрушилось на меня всеми копытами…” по дачам ездите… так вам и надо: вот и посидите без хлеба. Справка? И не подумаю. Какая такая еще справка?” А из глаз – все четыре копыта.
Вспомнилось, как в старину орал и топал ногами на нас – на меня и знакомую курсистку – киевский жандарм полковник Новицкий[227]. Чуть-чуть другой жаргон, но то же содержание, такая же насыщенность человеконенавистничеством. Курсистка вышла от него в слезах. “Честь, правду, человеческое достоинство, все затоптал своими сапогами”, – всхлипывая, говорила она. Я не плакала, как не заплакала и теперь. Я испытываю в такие минуты глубокое недоумение, недоверие к тому, что это действительность, а не сон. И смотрю и силюсь разгадать это откуда-то со стороны. И уж потом приходит мысль о “чести, правде, человеческом достоинстве”. И не скажу “обида” – может ли обидеть вас собака, которая ошеломит вас лаем и вдобавок и кусает. А поскольку такой управдом человек, за него, за звериность его проявлений неловко и жутко. Поскольку же сам все-таки облит помоями, говоришь себе:
– Такова историческая Немезида.
За то, что я, мы – интеллигентский класс – имеем возможность читать, думать, творить, за то, что мы знаем Шекспира, Байрона, Данте, Герасимов [председатель жакта. – Н. Г], который с трудом одолевает “Рабочую Москву” и полжизни – на заводе, ненавидит нас прочной, тяжелой, завистливой ненавистью.
1 августа. 12 часов ночиМосква. Комната Нины ВсеволодовныОтшумела, отгремела очередная гроза (третьи сутки или вечером, или ночью грозы). Откричал что-то хрипло-назойливое, на весь двор орущее громкоговоритель из чьего-то окна. Тихо. Время развернуть хартию прожитого дня. Что в ней? Утром Нина Всеволодовна, Ирис, Аннушка. Нина Всеволодовна охвачена приступом тоски о пропавшем сыне. “Не пишет. Два месяца уже. Уехал на Алтай? В сыпняке где-нибудь валяется, может быть, уже схоронили его. Или женился, негодный мальчишка, и все на свете забыл…. Надо опять на могилку о. Валентина съездить. Иначе не вынесу этой неизвестности”. Аннушка: “Пропаду, все пропадем з етой жизни. Третью ночь за керосином стоим. А в 4 часа говорят: нету. И дров нету. Как же ж варить? А постирать? Значит, и Женя будет у грязном ходить”.
Потом у Добровых. Все соболезнуют мне в моих мытарствах по получению карточек и в безнадежности вопроса. Все негодуют на грубость Герасимова (нашего преджакта). Пожалуй, мне приятно, что они возмущены. Но у меня нет негодования, “я голубь мужеством, во мне нет желчи и мне обида не горька”[228]. Не во всех случаях жизни, но в очень многих.
Потом – апофеоз добровской дружественности: Елизавета Михайловна прибегает сияющая с вестью, что, несмотря на все козни домкома, пайка меня нельзя лишить. Я уже успела примириться с этой неудачей, уже расчислила то, что у меня в руках, так, что получилась перспектива хоть очень скаредного житья, но можно было не бросать дачной комнаты. Тем не менее празднично пережила эту весть из-за этого чудесного сияния на лице Елизаветы Михайловны, доброты и самой неподдельной и очень сильной (сильней, чем у меня) радости за мою удачу и за конец моих мытарств. Еще и еще раз вспоминаю, как умирающая Н. С. Бутова говорила: “На смертном одре познаешь, что такое друзья и кто твои друзья. Мои – Добровы. Лиля. Елизавета Михайловна и Филипп Александрович”.
В шесть часов пошли с Ирисом на Девичье поле, в маленький, но очень зеленый треугольник “второго” сквера с большими развесистыми деревьями и бархатными лужайками. Там Ирис читал и отбирал при моем участии стихи для рецензии Луначарского. Так ей кто-то посоветовал. И встала над нами апокалипсически грозная туча с лиловыми и красными молниями. Успели добежать домой до ливня. Отбирали книги для продажи – семья бедного Ириса почти голодает. Его подкармливают, а мать и кормилица питаются кое-как. Отобрали мне для ночного чтения Марка Аврелия, Буаста[229]. Открываю его, чтобы встречей с ним закончить день: “Попался тебе горький огурец – брось его. Попался терновник на дороге – отстрани его. И довольно. Не говори при этом: зачем такие вещи случаются в мире?”
Но ведь это “зачем” – начало всякой философии, начало религиозной мысли – во имя чего же отстранять его.
12 августаУ Эренбурга – самого умного, самого прямого, острого и фельетонно-блестящего писателя современности хорошо сказано о кино: “Кинематограф был дан человечеству, впавшему в детство, как гениальная соска, с его совмещением экономии времени и нормальной питательности души. Он нес в себе универсальную упрощенность для усталых фантомов, а также для молодых, вполне здоровых кретинов. Поэтому до войны он оставался низкой забавой, воскресными выходами детворы и прислуги, чтобы стать потом основным искусством современности”[230]. Тут ярко сформулировано то, чем кинематограф будит во мне отвращение. Брезгливое чувство к соске (даже когда Даниил “водил” нас с Анной Васильевной Романовой на “Зигфрида”[231]), недоумение и обида: за кого меня принимают, угощая под видом искусства – даже не суррогатом, а пародией на него. Вращающие белками лица величиной с дверь, каждая слеза – с крупную грушу, все нарочито, все подчеркнуто, сметано на живую нитку. И в угорелом темпе. Никогда не могла понять, как люди, не лишенные художественного чутья, могут серьезно говорить о той или другой постановке в кино. И кто-то еще имел безвкусие наименовать его “киношку” – “великий немой”.
28 августа. Москва. Комната Нины ВсеволодовныПорой чужая радость звонче и полноценнее раздается в душе, чем своя. В своей всегда почти есть привкус грусти о неполноте, о преходящести всякой радости. И контрастное представление обо всем трагическом в жизни близких. (Радость – утренняя телеграмма в семье Ириса от ее без вести пропавшего брата, которого мать считала уже мертвым.)
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Маятник жизни моей… 1930–1954"
Книги похожие на "Маятник жизни моей… 1930–1954" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Варвара Малахиева-Мирович - Маятник жизни моей… 1930–1954"
Отзывы читателей о книге "Маятник жизни моей… 1930–1954", комментарии и мнения людей о произведении.