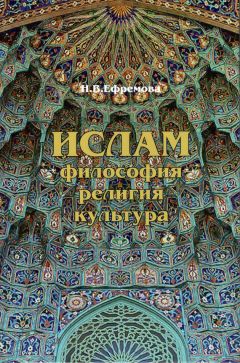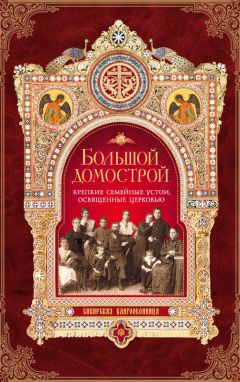Ирина Воронцова - Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ века

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ века"
Описание и краткое содержание "Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ века" читать бесплатно онлайн.
В монографии впервые в контексте новейшей истории Русской Православной Церкви рассматривается эволюция и исторические связи движения за «обновление» церковного христианства («новое религиозное сознание»). К исследованию привлекались опубликованные (оригинальные сочинения, корреспонденция, публицистика, воспоминания, дореволюционная периодика) и неопубликованные документы 1901–1917 гг. из рукописных фондов (РГАЛИ, РГБ, ГАРФ: стенограммы и доклады Петербургского религиозно-философского общества, корреспонденция архиепископа Никона (Рождественского), митрополита Антония (Вадковского), архиепископа Феодора (Поздеевского), священников Г. Петрова и К. Агеева, профессоров Н.Н. Глубоковского, М.М. Тареева, А.В. Карташева, Д.С. Мережковского, монашествующих к В.В. Розанову и др.), позволившие раскрыть тему исследования и передать атмосферу назревавших в российском обществе перемен в области церковно-государственных отношений в начале ХХ в.
После встреч в католической Европе Д. Мережковский начинает популяризировать идею религиозной природы революций. Он считал, что в основе религиозно-исторического развития общества обязателен революционный элемент, т. к. само христианство в свое время было революционным по отношению к язычеству и иудейству. «Предстоящая религиозная революция подобна той, которая совершалась при возникновении христианства»[250], – писал он. Этот тезис был услышан многими; правда, когда, например, студенты Московской духовной академии стали писать о том же в своих сочинениях, из него выпало слово «религиозная».
Д. Мережковский рассуждал: «Что такое христианство – все или только часть всего? Последняя завершающая или посредствующая, переходная ступень в религиозной революции человечества?»[251] И отвечал: «В первом случае – конец христианства есть конец религии; во втором – этот конец может быть началом новой религии». И русская революция, которая была и грядет, по Д. Мережковскому, это способ движения вперед в богочеловеческом процессе, она «имеет великий смысл религиозный» как «последнее действие трагедии всемирного освобождения»[252]. Ближайшим таким действием в истории человечества, писал он, была «великая французская революция», в которой был «неизбежный выход… отделение церкви от государства»[253]. Русское религиозно-революционное движение началось не сегодня, а с реформы Петра I, имело продолжение в «декабрьском бунте», и на глазах его современников совершается то, «о чем декабристы не смели мечтать» – русская революция. Но совершается, по его мнению, для того, чтобы мы, наконец, поняли религиозное значение сказанного в «листках „Православного Катехизиса“»[254]: всякая власть на небе и на земле принадлежит Христу. Революционное движение ставит «религиозный вопрос о власти»[255].
В 1908 г. Д. Мережковский не верит в революцию «сверху». В статье «Еще раз о „Великой России“» он пишет в ответ на очерки П. Б. Струве в «Русской мысли»: «В настоящее время советовать русскому государству: будь революционным – все равно, что советовать утопающему: вытащи себя за волосы»[256]. Нужны какие-то другие силы. Д. Мережковский сознает, что на пути религиозного прославления революции, как благословленного Богом действа, неизбежно встанет авторитет в русском обществе Ф. М. Достоевского и его «Бесов». Перед Мережковским – дилемма: если утверждать, что революционность религиозна («Революция и религия – не причина и следствие, а одно и то же явление в 2-х категориях: религия не что иное, как революция в категории Божеского… религия и есть революция, революция и есть религия»[257]), то как совместить «бесов» революции и ее «религиозность»? На помощь приходит метод антиномий[258].
«Что в русской революции есть, между прочим, и „бесы“, в этом нет сомнения, – пишет Д. Мережковский. – Но одни ли „бесы“? Не происходит ли и в ней, как во всяком всемирно-историческом явлении, борьба Божеского с бесовским? Вопрос не в том, что победит… но… чему желать победы»[259]. Если, по Мережковскому, Святой Дух присутствует как направляющая сила в религиозно-революционном движении, то говорить о «революционном человечестве, последнем нарушителе всемирной субботы – церковной государственности», что «в этом человеке бес» – означает говорить «хулу на Духа»[260]. Потому, что «Христос есть вечное „да“ всякому бытию, вечное движение вперед… от космоса к Логосу… к Боговселенной… Антихрист есть вечное „нет“… вечное движение… к хаосу… в Духе небытия. В этом смысле, – выводит Д. Мережковский, – Христос – религиозный предел всякой революции[261]; Антихрист – религиозный предел всякой реакции»[262].
У революции свои «священномученики», казненные революционеры есть «лежащие под жертвенником души убиенных за Слово Божие», – пишет он в статье «Бес или Бог»[263]. Д. Мережковскому кажется, что «сам Достоевский предчувствовал, что революции можно дать религиозное толкование совсем иное, чем то, которое он дал»[264]. Наконец он приходит к заключению, которое оправдает и революцию, и призыв «революционно-религиозного» нового сознания к борьбе за новый религиозный порядок: «Бес, выходящий из революции, эти мученики без Бога» – это «крестоносцы без креста», а «те, кто мучает их во имя Бога… похожи на стадо бешеных свиней, летящих… в пропасть»![265]
«…Речи о революции… в устах Мережковского звучат неверными тонами, не связанными с его общей идеей о Богочеловеческом царстве», – писала в 1909 г. Л. Щеглова[266]. А. Мейер в своих воспоминаниях о 1908 г. отмечал, что «на защиту» революционного «духа и были направлены старания Д[митрия] С[ергеевича] М[ережковского]. …Единственное место, где говорилось о революции, где сохранялась вера в ее реальность, было ПРФО», направляемое мережковцами[267]. Теперь, по прошествии лет, мы знаем, что члены кружка Д. Мережковского в ходе развертывания марксистами пропаганды революции распространяя свои религиозные взгляды, приняли и допустимость насилия в вопросе о религиозной революции (протоколы ПРФО 1916 гг.). Можно утверждать, что революция не была для Мережковского «образом», в ней он видел способ и силы для воплощения «нового религиозного сознания», порядка «нового религиозного бытия» новой религиозной общественности и новой Церкви.
Примерно в 1909—1910-х гг. молодой студент Санкт-Петербургской духовной академии А. Введенский становится частым гостем в салоне Мережковского и Гиппиус. Модные писатели обращают внимание на студента, у последнего здесь завязываются литературные связи, появляются новые знакомства, рассказывают А. Левитин-Краснов и В. Шавров. «В его голове рождается грандиозный план – выявить причины неверия русской интеллигенции путем анкетного опроса, – пишут со слов самого А. И. Введенского[268] А. Левитин-Краснов и В. Шавров. – Ему удается заинтересовать своим планом либеральное „Русское слово“»[269] и вызвать тысячи откликов корреспондентов, принявших его за однофамильца – профессора А. И. Введенского[270]. Так курьезно вблизи основоположника НРС началась общественная биография еще одного «обновителя» церковного христианства, которому история отведет роль карикатуры на представителя увлеченной философскими идеями религиозной интеллигенции начала века.
В 1914 г. русское общество было на патриотическом подъеме, который, по мнению «триумвирата», отвлекал внимание от НРС и революционного движения. Патриотические чувства Н. Бердяева, С. Булгакова, А. Карташева внесли раскол в лагерь сторонников религиозно-революционных перемен. 3. Гиппиус записала в дневнике 14 сентября 1914 г.: «Москва в повальном патриотизме… петербургская интеллигенция в растерянности, работе, вражде»[271]. Д. Философов, А. Мейер, 3. Гиппиус и Д. Мережковский увидели в патриотизме лишь национализм и старались представить его как течение внерелигиозного, нехристианского толка. 26 октября предпринимается попытка обсудить эту тему в ПРФО, поднятую в докладе Д. Мережковского «О религиозной лжи национализма» и докладе А. Мейера «Религиозный смысл мессианизма» [272].
Доклад Д. Мережковского[273] начинался с обращения к понятиям «культура истинная» и «культура ложная», затем автор переходит к главной теме: что может дать грядущему обществу социальное единство? Д. Мережковский, ранее считавший, что религия (культура) – «часть плоти и крови народной», теперь заявляет, что существо культуры сверхнационально. Разрозненное на нации человечество всегда подспудно стремилось к единству, в лице великих завоевателей он увидел первый вариант единства – государственный, что есть, по Мережковскому, соединение внешнее, неустойчивое. Второй тип единения – «во имя Божеского Разума, Логоса», эта идея «воплощается в Церкви Вселенской». Но и это единство, по Д. Мережковскому, непрочно, т. к. в Церкви наблюдается «смешение двух несовместимых начал – церковного и государственного. Национализм раскалывает Церковь сначала на восточную и западную, потом на Поместные Церкви»[274]. Д. Мережковский настаивает, что существует третий вид, «пока еще не осуществленный в истории, – революционный социализм»[275]. Д. Мережковский объявляет борьбу с национализмом как разъединяющим началом главной задачей русской интеллигенции[276]. И если уж она вступила на религиозный путь, то прежде всего надо «выйти реально из старой Церкви, т. к. оставаться в ней – значит принимать в ней Причастие» и вести – хотя внешне – все-таки прежнюю, исторически сложившуюся церковную жизнь. Затем отречься от монархической государственности и повернуться к «подлинной» на сегодняшний день религии, которая есть «бессознательная религия – святыня революции»[277]. «В революции правда человеческая становится Божеской»[278]. «Всякая революция… утверждает… вненациональный и вне-государственный идеал „свободы, равенства, братства“, который… ни в каком государстве осуществиться не может», кроме как в теократическом обществе, где глава Христос, и царство Божие есть на земле, как и на небе[279]. «Свобода, равенство, братство» у Д. Мережковского становятся религиозно-общественными составляющими Царства Христа на земле.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ века"
Книги похожие на "Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ирина Воронцова - Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ века"
Отзывы читателей о книге "Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ века", комментарии и мнения людей о произведении.