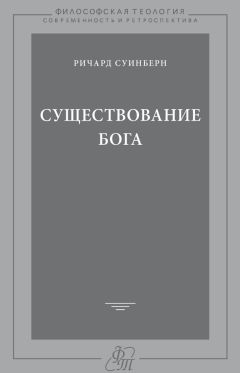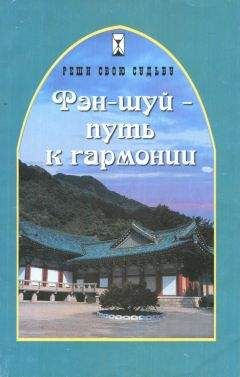Тимур Гайнутдинов - Des Cartes postales
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Des Cartes postales"
Описание и краткое содержание "Des Cartes postales" читать бесплатно онлайн.
Обращаясь к текстам Декарта, монография рассматривает проблему экспозиции тела в структуре бытия. Сопоставляя понятия протяженности и тела, автор анализирует пространственность тела онтологически, как развертывание его телесного бытия. Картезианское тело всегда функционально избыточно, но именно эта избыточность обнаруживает его радикальную пустоту. Этот телесный дискурс, где мысль о теле с неизбежностью касается стойкой чужеродности самого тела, определяется в качестве картезианской купюры.
Итак, все предметы, даже виденные нами в раннем детстве, оставляют в нашем мозгу «следы». Однако мы оказываемся неспособны вспомнить большую часть переживаний и образов нашего детства, поскольку отнюдь не все следы сохраняются в памяти: «для воспоминания достаточны не какие угодно следы…, а лишь те, в отношении которых ум признает, что они были в нас не всегда, а когда-то возникли вновь». Мнемозина, столь разборчивая в связях (если не брать в расчет пастуха, но то был сам Зевс), не готова отдаваться каждому, а потому скрепляет узами памяти лишь след определенного рода. Она требовательна к своим избранникам. Это стоит признать, тем более что требовательность эта – следствие хорошего вкуса. Спору нет, Музам повезло с матерью. Другой вопрос: повезло ли нам с Музами?
Впрочем, Декарт, по всей видимости, не слишком доверял Музам: в его глазах им не хватало достоверности и постоянства, так что это был в первую голову вопрос логики и лишь затем – любовной страсти. Кроме того, сложно представить себе Музу с косыми глазами. По крайней мере, Декарт, чье воображение, как мы знаем, способно на многое, этого сделать так и не смог. И все же главный его упрек – ненадежность, и, разумеется, он обращен не столько к Музам, сколько – их матери. Мы не можем опереться на память: она слишком строптива и «зачастую подвержена ошибкам», «неустойчива» и «слаба»43. Мнемозина не держит своего обещания – обещания помнить; и, напротив, она, вопреки заверениям, продолжает удерживать в памяти то, о чем следовало бы забыть, что, казалось, и было забыто, похоронено вместе с сонмом жутких ночей. Память способна к обману, она не является более тем, чем ей престало быть, она не является даже самим этим «быть», то есть собственной сущностью и предназначением. Она, одновременно, открывает себя «напечатлению» следа и, вместе с тем, оказывает ему сопротивление. Но и это еще не все: оказывается, что субъект располагает отнюдь не всеми воспоминаниями, которые сохраняет его память, то есть память субъекта удерживает воспоминания, несмотря на то, что «сам он об этом ничего не помнит». Уже на этом уровне мы отчетливо сталкиваемся с расщепленностью картезианского субъекта. И, рискнем предположить, именно здесь, а вовсе не на уровне различия мыслящей и протяженной субстанции, мы должны эту расщепленность рассматривать.
Память несет с собой логику палимпсеста, что живет истиранием с поверхности установленного порядка слов, смывая его, словно грязь, здесь и там облепившую руки, соскабливая, подобно старой сгнившей коре. Палимпсест напоминает старое еврейское кладбище в Пражском гетто, уходящее вглубь за невозможностью двигаться вширь: слова обвивают друг друга скелетом собственных контуров, подобно плотной череде угрюмо нависших плит. И в том, и в другом случаем, мы имеем дело с экономией места, но также – логикой жертвы смысла. Впрочем, в палимпсесте прежний текст продолжает сочиться сквозь поры новых слов и новых чернил. Он продолжает жить, не будучи видим, не имея возможности себя прочесть, узнать в слепом остатке уцелевших букв, чей шпиль растворился в водной глади новой красивой прописи.
В этом смысле след подобен палимпсесту: он изымает себя, но делает это именно для того, чтобы себя сохранить, оставив, быть может, едва ощутимый оттиск, едва ли различимый граф. След означает также саму «нестираемость бытия», невозможность абсолютного забвения.
Вслед за Декартом, мы видим, что посредством вытеснения происходит своего рода капитализация следа. И это как раз тот случай, когда капитал, беря верх над субъектом, становится всевластен. Память способна откладывать некоторые следы, тем самым приостанавливая или задерживая их психическую обработку. Это следы, упраздняющие свое прочтение, заметающие себя подобно вору, силящемуся скрыть улики; следы изъятия и исчезновения, отстранения и отступления, которые стирают из памяти сами себя, оставляя лишь пустое пространство в «порах мозга». «След – это стирание самого себя, своего присутствия, он конституирован угрозой или тревогой своего безвозвратного исчезновения, исчезновения исчезновения… Это стирание следа – не несчастный случай, который мог произойти здесь или там, не необходимая структура некоторой цензуры, угрожающей тому или иному присутствию; но, как движение темпорализации и как чистое самоаффектирование, оно оказывается структурой, которая делает возможным то, что можно было бы назвать вытеснением вообще»44. Деррида прав – это не структурный закон цензуры, но и не некоторая всегда временная случайность в истории форм присутствия; стирание следа, его внутреннее изживание, изжигание, испепеление самой его плоти, едкого нутра – это то, что делает возможным вытеснение как таковое. След позволяет себе избыток собственной (у) траты, иначе – он позволяет себе быть ничем, изгнать себя и раствориться «в небытии своего бытия, том остатке без остатка, что называется золой»45. «Нас ждет зола» – след угасшего пламени, след другого имени: «след – или же зола. Эти имена стоят других»46, обнаруживая общую меру стоимости. Впрочем, это менее всего вопрос экономии имени, попытки имя сберечь, спасти от огня. Имя, любое имя, обязано огню. «Пусть у нас будет огонь, пусть будет жар и пусть огонь горит сколько угодно»47, сжигая каждое имя, оставляя лишь след. Или же золу. Эти имена стоят за другими, метонимически смещая значение, вознося его подобно фимиаму: ладан, гвоздика, мускус, можжевельник, мирра, розмарин, корица, лавр, несколько капель лаванды, совсем чуть-чуть базилика и, в довершение всего, горсть лепестков роз. Облако благовоний оседает пеплом на коже, удушливо стягивая голову запахом роз. Здесь действительно нет иного остатка, как нет иного следа, кроме, разве что, – запаха роз, подобного самым жутким миазмам.
Констанс Классен в работе «Миры ощущений», исследуя этимологию терминов английского языка, фиксирующих наше чувственное восприятие действительности, замечает, что «чисто обонятельные термины нередко происходят от слов, отсылающих к огню или дыму. Так, например, корни слов «smell» (запах), «reek» (вонь, зловоние, затхлость), «perfume» (благоухание, аромат) и «incense» (фимиам) означают «гореть» или «дымить»48. Испускать густой дым или копоть, кадить, воскурять… Каждый запах, самый смрадный и самый благостный, отсылает к огню, он воскуряется вместе с ним, превращаясь в пламя, превращая пламя в густой дым и копоть. Впрочем, само пламя еще ждет нас впереди.
Вместо/е тела
49В трактате «Первоначала философии» Декарт пишет, что «природа материи, или тела, рассматриваемого вообще, состоит не в том, что оно – вещь твердая, весомая, окрашенная или каким-либо иным образом воздействующая на наши чувства, но лишь в том, что оно – субстанция, протяженная в длину, ширину и глубину»50. Человеческое тело есть лишь одно из многих в череде прочих материальных тел, и, подобно им, оно «протяженно в длину, ширину и глубину». В другом месте («Размышления о первой философии») он развивает это определение: «Под телом я разумею все то, что может быть ограничено некими очертаниями и местом и так заполняет пространство, что исключает присутствие в этом пространстве любого другого тела»51. Мы видим, что тело прочитывается Декартом исключительно пространственно. Именно пространство выступает экспозицией тела, то есть тем, что его предъявляет в качестве места присутствия или присутственного места. Мерло-Понти по этому поводу пишет, что «быть телом – значит, как мы видели, быть привязанным к определенному миру, и изначально наше тело не в пространстве: оно принадлежит пространству»52. Проблема заключается в том, что и сейчас, спустя более трех с половиной веков после Декарта, мы по-прежнему еще бесконечно далеки о того, чтобы понять весь смысл этой пространственной принадлежности нашего тела. «Пространственность тела есть развертывание его телесного бытия, тот способ, каким оно осуществляется как тело»53. Пространство выражает способность тела к развертыванию, это некая интенция тела.
Впрочем, неверно было бы думать, что в картезианстве пространство детерминирует собой тело, скорее, оно сливается с самим бытием тела в едином акте существования. Конечно, не может быть тела вне пространства, но точно также как не может быть и пустого пространства, лишенного тела: «Что же касается пустого пространства в том смысле, в каком философы понимают это слово, т. е. такого пространства, где нет никакой субстанции, то очевидно, что в универсуме нет пространства, которое было бы таковым, потому что протяжение пространства или внутреннего места не отличается от протяжения тела».54 На страницах «Первоначал философии» Декарт отмечает, «что одно и то же протяжение составляет природу как тела, так и пространства»55, а значит, пространство экспозиционирует собой тело в той же степени, что тело – пространство. Это значит также, что тело не просто занимает некое место, но становиться самим местом, и «причина этому та, что сами названия „место“ и „пространство“ не обозначают ничего действительно отличного от тела, про которое говорят, что оно „занимает место“; ими обозначается лишь его величина, фигура и положение среди других тел»56. Иначе говоря, тело в картезианстве и есть место («тело-место» Нанси), что вовсе не означает, что тело имеет место (как если бы можно было иметь место без бытования в-месте), напротив, – тело, заполняя собой пространство, изымает место: «Контур моего тела – это некая граница, которую обыкновенные пространственные отношения не пересекают»57. И если Декарт и пишет о том, что «тело заполняет собой пространство» и «удерживает место», то сам смысл этого «заполнения» и «удержания» вовсе не в сохранении, но, напротив, в изымании и изъятии, подобно тому, как удерживают пени или процент с суммы. Имеет место акт изъятия, нечто отрицательное, квалифицирующее себя в качестве изымательного.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Des Cartes postales"
Книги похожие на "Des Cartes postales" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Тимур Гайнутдинов - Des Cartes postales"
Отзывы читателей о книге "Des Cartes postales", комментарии и мнения людей о произведении.