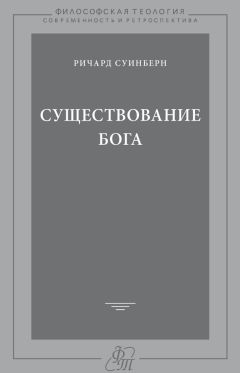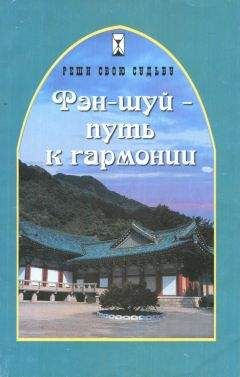Тимур Гайнутдинов - Des Cartes postales
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Des Cartes postales"
Описание и краткое содержание "Des Cartes postales" читать бесплатно онлайн.
Обращаясь к текстам Декарта, монография рассматривает проблему экспозиции тела в структуре бытия. Сопоставляя понятия протяженности и тела, автор анализирует пространственность тела онтологически, как развертывание его телесного бытия. Картезианское тело всегда функционально избыточно, но именно эта избыточность обнаруживает его радикальную пустоту. Этот телесный дискурс, где мысль о теле с неизбежностью касается стойкой чужеродности самого тела, определяется в качестве картезианской купюры.
Георгий Гачев, обратившийся к Декарту в общем контексте гуманитарной культуры Франции (или, быть может, к гуманитарной культуре Франции в общем контексте Декарта), также пишет о своем «филологическом, а не философском» интересе к Декарту. Основной задачей такого подхода он называет «выискивание образов у Декарта», и среди «главных образов-моделей» называет «Вихрь, Губку, Муравья, Улитку»26. Разумеется, это лишь неполный перечень, требующий своей сцепки, связки, стягивания (и вновь навязчивые или, точнее, навязшие на плотной ткани текста образы Декарта) с перечнем Споерри или/и Деррида, впрочем, и после этого не потеряющий своей открытости. Это особенность метафор и образов, само их существо: они остаются открытыми, взламывая текст изнутри, а значит всегда внеположны любому списку или перечню. Кроме этого, метафоры, как известно, способны смещать значение. Скажем метафоры света, огня, к которым нам еще лишь предстоит обратиться. Или метафора пути: «…я решил, что с моей стороны будет большой заслугой, если я покажу, каким образом следует отличать свойства, или качества, ума от качеств тела. И хотя многие писали и раньше, что для постижения метафизических предметов следует абстрагировать мысль от чувств, все же никто до сих пор, насколько мне известно, не показал, каким образом этого можно добиться. Истинный же путь к этому – и, на мой взгляд, единственный – изложен в моем „Втором размышлении“, однако он таков, что недостаточно пройтись по нему однажды: долго надо его протаптывать и вновь возвращаться к началу, дабы привычка всей нашей жизни – смешивать умопостигаемые объекты с телесными – была вытеснена приобретенной в течение нескольких дней противоположной привычкой, а именно привычкой их различать»27.
Итак, необходимо проложить «истинный путь» различения двух субстанций: различие против смешения28. Впрочем, и этого еще недостаточно: требуется «протаптывать» этот путь, возвращаясь к началу, проделывать это вновь и вновь, с настойчивостью и решительностью, наступая себе на пятки. Необходимо пройти путь от смутной радости узнавания на плоскости формы своей ступни до обретения плоскости в форме этой самой ступни, когда след начинает кроить дорогу по лекалам своих очертаний. Не ощущая «естественного света разума», или вовсе его чураясь, множество «ученых мужей» вынуждены подолгу блуждать по «окольным» и «трудным» путям мысли; скитаться, словно во тьме, и скорее на ощупь, вдоль непрочной кладки изъеденных временем стен, рискуя в любой момент лишиться единственной точки опоры. Они подобны слепым кротам, беспорядочно роющим почву и ведущим жизнь в подземелье, не поднимаясь на поверхность из боязни ослепнуть: «у всех тех, кто привык таким образом бродить во мраке, настолько ослабляется острота зрения, что впоследствии они не могут переносить яркого света»29. Немало философов «ведут свои умы по неизведанным путям без всякого основания для надежды, но только для того, чтобы проверить, не лежит ли там то, чего они ищут; как если бы кто загорелся настолько безрассудным желанием найти сокровище, что беспрерывно бродил бы по дорогам, высматривая, не найдет ли он случайно какое-нибудь сокровище, потерянное путником». Конечно, Декарт признает: иногда ученые «блуждают до такой степени удачно, что находят нечто истинное», однако отмечает, что это свидетельствует лишь об их «удаче», а вовсе не о владении методом или «усердии»30. Именно поэтому необходим надежный метод или, иначе, «достоверные и легкие правила», задающие определенную систему энумеративной разметки, своего рода карту движения ума, одновременно ясную и очевидную. Это карта «истинного пути» мысли, столь же необходимая для постижения подлинной сущности «метафизических предметов», сколь «нить для Тесея, желающего проникнуть в лабиринт»31.
У Декарта очень часто встречается метафора «пути» – «единственного», «правильно», «прямого», «ровного», «наилучшего», «верного»32 и проч. Впрочем, можно увидеть, что мы сталкиваемся здесь не только с различием путей следования, но и вопросом шага, его метрики, динамики, ритма. Следовало бы выразить это более четко, и мы попробуем пояснить, о чем идет речь. Картезианство – это движение с оглядкой, осторожный, опасливый шаг по новой земле. Чуткий в своем страхе и, одновременно, уверенный в своей силе, – шаг узнавания и поиска, обретающий твердь поступи лишь в повторе движения, вновь и вновь возвращаясь к началу. Только тогда он начинает множить себя, уплотняя следы, «протаптывать» путь. Это строгое и размеренное движение шаг за шагом, подолгу задерживаясь на каждом звене пути33. Декарт подчеркивает «последовательность» и «непрерывность» этого движения, но, вместе с тем, очевидно, его постоянное внутреннее цезурирование, которое, буквально, рассекает шаг мысли, разделяя его на множество частей. Именно это методически и, рискнем утверждать, ритмически выверенное движение цезуры составляет суть дедукции. Цезура, оставляя метки, зарубки, особым образом размечает пространство мысли, и, одновременно, сохраняет в памяти его путь. Картезианские «Правила для руководства ума» подобны стрелкам, оставленным мелом на поверхности, или, скорее, даже высеченным, выгравированным, вытоптанным, так что их нельзя было бы не заметить или же оставить неузнанными, а, самое важное, – их невозможно стереть.
Будем двигаться дальше: в словах, приведенных выше, Декарт также пишет о том, что проложить, – и, одновременно, прожить, – «истинный путь» возможно лишь посредством вытеснения: «привычка всей нашей жизни смешивать умопостигаемые объекты с телесными» должна быть «вытеснена». Не подвергнута исключению, или же предана забвению, а именно «вытеснена». Там, где было смешение, должно стать различие. При этом мы видим, что это различие духа и тела, мыслящей и протяженной субстанции, задается метафорой двух проложенных путей, лишь один из которых может быть источником подлинного мышления. И само это различие немыслимо в картезианстве без вытеснения.
Но теперь, после Фрейда, мы достаточно прозорливы, чтобы понять, что все вытесненное неизбежно возвращается, подобно призраку. Именно это и происходит с Декартом. В этом плане, анализ телесности в картезианстве предстает как процесс непрерывного вытеснения и, одновременно, настойчивого возвращения вытесненного. Впрочем, по всей видимости, Декарт сам прекрасно понимал принцип действия механизма вытеснения – понимал многим лучше и тоньше, самого Фрейда. Тоньше, в смысле носа, чутья, запаха: он различал его в нюансах ароматов; скажем, роз. У Декарта был тонкий нюх на эти вещи. Следовало бы назвать это психоаналитическим прозрением, если бы это не грозило нам затянувшимся, – и, боюсь, в форме петли, – объяснением, поэтому назовем это, вслед за самим Декартом, «естественным светом». Впрочем, аромат, как мы увидим далее, был, что называется, с душком, в том смысле, что дурно пах, но также и взывал к духам. А духи и призраки как раз и являются вотчиной картезианства по-преимуществу (пока обороним это лишь мимоходом и в спешке, в качестве тезиса, с которым нам предстоит еще самое серьезное объяснение).
«Между нашей душой и нашим телом существует такая связь, что если мы однажды соединили какое-то телесное действие с какой-то мыслью, то в дальнейшем, если появляется одно, необходимо появляется и другое; причем не всегда одно и то же действие соединяется с одной и той же мыслью. Этого достаточно, для того чтобы понять в самом себе и в других людях все, что связано с этим вопросом, здесь не рассматриваемым. Например, в связи с этим легко понять, что необыкновенное отвращение, какое вызывает у некоторых людей запах розы или присутствие кошки и тому подобное, происходит лишь от того, что в начале нашей жизни они были очень сильно потрясены чем-нибудь похожим на это; возможно, они унаследовали чувства своей матери, которая была потрясена тем же, будучи беременной, ибо есть несомненная связь между всеми чувствами матери и чувствами ребенка, находящегося в ее чреве, и то, что действует отрицательно на мать, вредно и для ребенка. Запах роз мог быть причиной сильной головной боли у ребенка, когда он был еще в колыбели, а кошка могла его сильно напугать; никто не обратил на это внимания, и сам он об этом ничего не помнит, но отвращение к розам или к кошке осталось у него до конца жизни»34. Слова Декарта, – буквально, на том же месте, где он их обрывает, – продолжает Фрейд: «Проще говоря, воспоминание в данный момент воняет так же, как реальный объект. Точно так же, как мы брезгливо отворачиваем наш сенсорный орган (голову и нос) от дурно пахнущих предметов, так и наше подсознание и сознательное восприятие отворачиваются от воспоминания. Это и называется вытеснением»35. Мы воротим нос, точно также как воротим память. Не в силах вспомнить, мы остаемся не способны забыть.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Des Cartes postales"
Книги похожие на "Des Cartes postales" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Тимур Гайнутдинов - Des Cartes postales"
Отзывы читателей о книге "Des Cartes postales", комментарии и мнения людей о произведении.