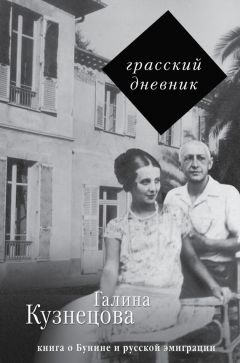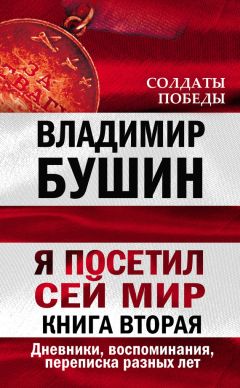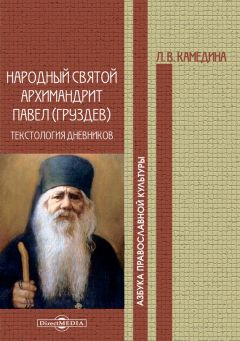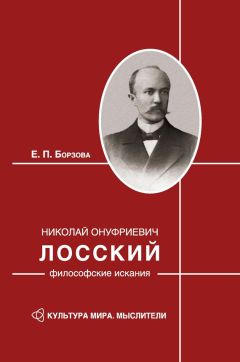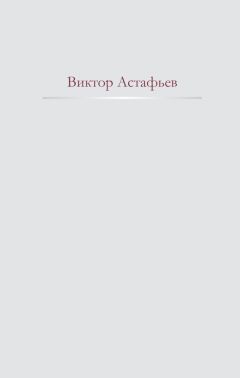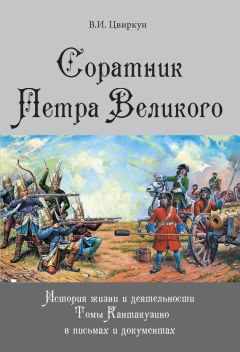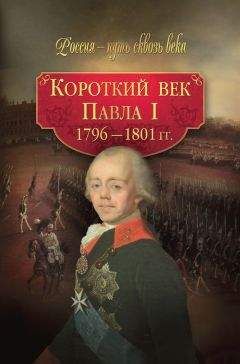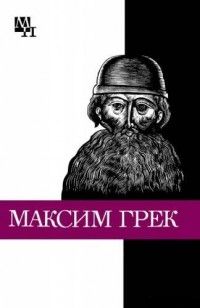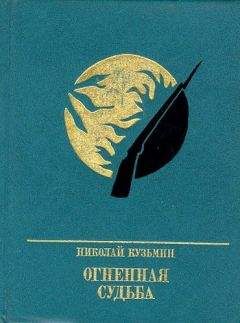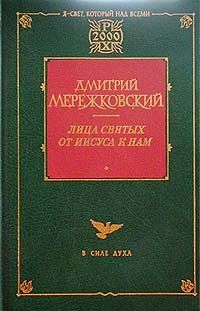Николай Павлюченков - Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект
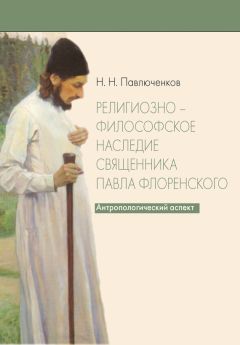
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект"
Описание и краткое содержание "Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект" читать бесплатно онлайн.
Священник Павел Флоренский (1882–1937) – выдающийся мыслитель начала XX в., поставивший цель в своем религиозно-философском и научном творчестве проложить пути к будущему цельному миропониманию. Данная работа посвящена одному из наименее изученных аспектов его творческого наследия, включающего в себя представления о месте человека в мире, строении и назначении человека. Систематическая реконструкция антропологии о. П. Флоренского предпринимается на основе большого количества источников: религиозно-философских трудов, писем и записей о. П. Флоренского, охватывающих весь период его творческой деятельности на свободе и в заключении на Дальнем Востоке и в Соловецком лагере. Работа включает также рассмотрение основных периодов творческой биографии о. Павла и важных особенностей его личного духовного и мистического опыта.
Книга адресована философам, богословам, историкам русской философии и всем интересующимся вопросами религиозно-философского учения о человеке.
В жизни и деятельности о. Павла начиная с 1917 г. многое будет казаться непонятным и странным, если не учитывать его убеждения в том, что события в России явились предвестником всеобщего утверждения «нового» мировоззрения, возвращенного к своим древнейшим общечеловеческим истокам. В апреле 1917 г. он готовит доклад «О религиозных задачах, стоящих перед новой Россией», в июне 1917 г. совместно с Булгаковым составляет проект учреждения в Москве «Религиозно-философской академии». По замыслу ее создателей, в числе прочего академия должна была содействовать «углубленному постижению Православия как вселенского по своему религиозному охвату» и осознанию роли России в решении «задач всечеловеческого деяния»[248]. «Мы знали, – вспоминал об этом С. Булгаков, – что через нас проходит сейчас ось Православия и всемирной истории». «Чего мы хотели? Явить истинную православную церковность во всей ее красоте, глубине и широте, дав православные ответы на все запросы современности и все их, таким образом, вместив в ее ограде». Все должно было быть «ассимилировано», «оправославлено», «оцерковлено» – философия, оккультизм, наука, искусство…[249] Для о. Павла это уже было некоторым предвосхищением эпохи «праксис», для которой он продолжал готовить теоретическую базу.
В сентябре 1917 г. о. Павел составляет (дополненный в 1919 г.) спецкурс «Из истории философской терминологии», где рассматривает очень важные антропологические вопросы, в т. ч. «мистическую анатомию» и человека как микрокосма. «Физиология, – говорит он в одной из лекций, – в основах своих есть непременно мистическая физиология и основа общечеловеческой религии». Здесь учение о. Павла об онтологическом значении тела человека доведено, как кажется, до своего высшего предела: «Наше тело, – утверждает он, – не что-то между прочим…. а нечто первостепенное и исключительно важное», оно «бесконечно глубже», чем это представляется грубому материализму и отвлеченному спиритуализму[250].
В лекциях по «Философии культа», относящихся к 1918–1919 гг., человек рассматривается в реальностях «сущности» и «ипостаси», причем говорится о том, что «сущность» являет себя телом, а «ипостась» заявляет о себе речью[251]. Это делает значимыми для антропологии Флоренского его работы из цикла «У Водоразделов мысли» (1917–1922), относящиеся к философии языка и слова. В 1922 г. о. Павел завершает цикл «Философии культа» несколькими лекциями, где человек рассмотрен с точки зрения понятий «лика», «лица» и «личины» («Иконостас») и как совокупность «концентров напластования личности», каждый из которых может быть назван «телом» («Философия культа»)[252]. К этой последней теме он возвращается в своей заключительной работе – «Имена» (1926). Здесь Флоренский повторяет многие идеи об онтологическом значении имени, отмеченные еще в студенческих обзорах 1906–1907 гг., и представляет имя как первое проявление «духовной сущности», некое тончайшее тело, за которым следуют далее более грубые структуры. Он как бы специально дает понять, что для него не важны их точные названия (в отличие от теософии и оккультизма, где – в разных вариантах – все тела прописаны[253]), но однажды, мимоходом, указывает на их связь с «материалом» окружающей среды – «мистическим, оккультным, социальным, психическим, физическим»[254]. Об «астральной» структуре человека Флоренский упоминает в работе «Магичность слова», написанной в 1920 г.[255]; об «астральном выхождении из себя» говорит в «Воспоминаниях» в записи января 1924 г.[256]
Совершенно определенно о. Павел утверждает имя как высшую онтологическую реальность в человеке, которая «предопределяет личность и намечает идеальные границы ее жизни»[257]. «Именем выражается тип личности, онтологическая форма ее, которая определяет далее ее духовное и душевное строение»[258]. Без имени человеческое Я, т. е. личность – «чистая субъективность»; «имя – онтологически первое, а носитель его, хотя бы и святой – второе»[259].
До своего первого ареста и трехмесячной ссылки в Нижний Новгород (1928) о. Павел пытался внести свой вклад в сохранение культурного наследия Церкви, спасти от закрытия Троице-Сергиеву Лавру и Оптину пустынь. Работая в советских научных учреждениях, он (до 1928 г.) неизменно появлялся везде в священническом подряснике. Кроме чисто научно-технических работ (по электротехнике и материаловедению[260]) он начал большую работу над «Словарем символов» (Symbolarium), которую планировал осуществлять и с привлечением других специалистов. Первый выпуск «Словаря», посвященный символу точки, был написан совместно с профессором А. И. Ларионовым к 1923 г. и содержал важные моменты, которые нельзя обойти в процессе изучения философско-богословского наследия о. Павла. Нужно выделить и такие работы о. Павла, как «Мнимости в геометрии» (1922), «Рассуждение на случай кончины отца Алексея Мечева» (1923), которая в числе прочего включает интересную для о. Павла тему возможности для человека еще при жизни «научиться умирать», и др.
В 1924 г. о. Павел подготовил две статьи для публикации в журнале «The Pilgrim», которые были посвящены вопросам христианского объединения. Одна из них («Записка о христианской культуре») действительно была опубликована на английском языке и призывала все исповедания «вместо оборонительной апологетики» к положительному раскрытию и разъяснению смысла своих упований. Здесь же о. Павел указывал на необходимость раскрытия христианских воззрений «на природу человека и на всю тварь»[261]. Другая статья – «Записка о православии» – интересна тем, что четко обозначает принципиальную позицию о. Павла: нет и не может быть ложных религий[262].
После короткой ссылки 1928 г. о. Павел был восстановлен в должности заведующего отделом материаловедения Всесоюзного электротехнического института[263]. Новый арест произошел в феврале 1933 г.
«Праксис»
«Надо очень, очень расти», – писал о. Павел в 1912 г., – чтобы превзойти «матесис» «и очень много страдать, чтобы дорасти до мистерий», до «праксис»[264]. «Только глубокие страдания по-настоящему формуют нашу личность и оставляют на ней существенные изменения», – свидетельствовал он в «Воспоминаниях», обращенных к детям (1924), – в то время как «удовольствие бесследно исчезает из памяти; радости памятуются, но как бледные, бескровные тени»[265]. Эпоха «праксис» наступила для о. Павла не так, как он это предполагал, расписывая этапы своего духовного становления, хотя оправдалась самая, может быть, главная интуиция – связь «деяния» и страдания. В июле 1933 г. о. Павел был осужден на 10 лет, сослан в так называемый БАМЛАГ, где в поселке Сковородино, на «Опытной мерзлотной станции», развернул исследования вечной мерзлоты. К осени 1934 г. эти работы с его участием были внезапно прерваны в связи с переводом его в лагерь на Соловки. Там о. Павел внес большой вклад в создание производства йода и готовил проекты по комплексному использованию водорослей. Все эти работы также были прерваны, и 8 декабря 1937 г. о. Павел был расстрелян предположительно в неизвестном месте в Ленинградской области. Наследие о. Павла, оставшееся от этого периода, – его переписка с женой, матерью и детьми[266], а также – сами направления и результаты его научных исследований на Дальнем Востоке и Соловках. В одном из писем 1936 г. он подтверждает свое учение о роде: «Я считаю, что знать прошлое своего рода есть долг каждого и приносит много пользы для самопознания и исправления или предупреждения возможных ошибок…»[267] В письме 23 февраля 1937 г. повторяются высказанные (в связи с учением о роде) на лекции «Об историческом познании» (1916) убеждения о связи времени с Вечностью. «Я высказываю вам это, – говорил Флоренский студентам, – как наиболее твердый пункт внутренней своей жизни: ничто не пропадает»[268]; «Во мне давно живет твердое убеждение, – написано в письме, – что в мире ничто не пропадает[269]. Для личной жизни это убеждение, м. б., и недостаточно утешительно. Но если на себя смотреть как на элемент мировой жизни, то при убеждении, что ничто не пропадает, можно работать спокойно… (курсив мой. – Н. П.)»[270]. «Все проходит, но все остается» (письмо 6/7 апреля 1935 г.), «Прошлое не прошло, а сохраняется и пребывает вечно» (письмо 27 мая 1935 г.)[271]. При этом о. Павел полагает, что внутри рода родственники могут воздействовать на судьбы друг друга. «Я принимал за это время удары за вас, – пишет он в марте 1934 г., – так хотел и так просил Высшую Волю». «Все это время я страдал за вас и хотел, и просил, чтобы мне было тяжелее, лишь бы вы были избавлены от огорчений, чтобы тяжесть жизни выпала на меня взамен вас»[272].
В письмах повторяются многие важные мысли из «Воспоминаний». Например, о. Павел пишет однажды, что все свои идеи извлекал не из книг, а «из себя»[273], отмечает, что на протяжении 50 лет своей жизни убедился в верности своих изначальных детских впечатлений[274], советует обращать внимание на самое раннее детство ребенка, «когда закладывается самый каркас личности. Все остальное, позднейшее, – только вариации на тему раннейшего детства»[275]. О. Павел рассказывает, как «чувствовал» своих детей до их рождения[276], учит дочь Ольгу «символически воспринимать действительность», т. е. уметь «находить высшее в «здесь» и «теперь»»[277]; также для Ольги он развертывает целое учение о слове, сходное с изложенным в работе «Магичность слова» в 1920 г.[278] и учение о Хаосе, который онтологически выше человеческой индивидуальности[279].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект"
Книги похожие на "Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Павлюченков - Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект"
Отзывы читателей о книге "Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект", комментарии и мнения людей о произведении.