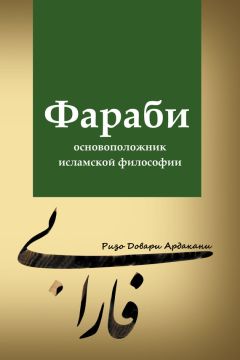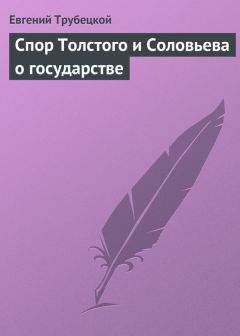Ян Красицкий - Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева"
Описание и краткое содержание "Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева" читать бесплатно онлайн.
Современный книжный рынок, казалось бы, насыщен переизданиями сочинений Владимира Соловьева и трудами о нем, однако книга польского философа «Бог, человек и зло», изданная в Польше в 2003 году и ныне впервые предлагаемая читателю в переводе на русский язык, представляет собой совершенно новое и необычное явление в историографии российской философии. Здесь обретает реальные черты та «икона Соловьева», которая существует в мировой культуре и содержит в себе огромный позитивный потенциал признания русского творческого вклада в мировую цивилизацию, сближения и взаимопонимания разных культур, в частности, в очень сложном польско-российском духовном пограничье.
“Сам по себе Бог, – пишет Соловьев, – не есть ни роковой закон, тяготеющий над природной жизнью материи, ни разум, только освещающий тьму этой жизни и во свете своем показывающий ее неистинность и зло: Бог больше этого и может сделать больше, чем это, Христос показал это большее на деле, показал, что Бог есть любовь, или абсолютная личность (разрядка автора. – Я.K.)”[306].
В отличие от “школьных философий”, у Соловьева Бог-Абсолют никогда не сводится к “чистому понятию”, не превращается в “систему” И именно это понятие, как пишет С. Булгаков, “понятие личного Бога (который есть любовь), является центральным понятием метафизики Соловьева, составляя ее отличительную черту. Характерно именно то, – добавляет философ, – что это оно получается чисто спекулятивным путем как результат анализа основных параметров (определений) бытия, как результат анализа основных определений бытия, следовательно, в полной независимости от какой бы то ни было исторической религии или откровения, хотя и необходимо приводит к нему и соединяется с ним”[307]. Нельзя также не заметить, что Соловьев, обращаясь к философии Шеллинга, в то же время радикально пересекает границы его онтологической философии (вне зависимости от ее трактовки). Разумеется, именно Шеллинг, вступая в спор с Гегелем, писал, что “Бог – это не система, Бог – это жизнь”, но только Соловьев наполнил это утверждение живой л и ч н о с т ь ю, сущностью Богочеловека. Не только в своей концепции Абсолютного, но также в области историософии, социальной философии, этики автор Чтений о Богочеловечестве, с одной стороны, остается под влиянием немецкого идеализма, но в то же время в его концепции Абсолюта-Бога и отношении к миру и человеку нельзя не заметить, пользуясь более современной терминологией, отчаянной попытки освободиться от ограниченности “Философии Тождества” и явного стремления в сторону “Философии Другого, Бесконечного”[308]. Это проявляется также в том, как воспринимались основные идеи Соловьева в среде непосредственных продолжателей и преемников его духовного наследия, особенно такими мыслителями, как Л. Карсавин, С. Булгаков, П. Флоренский, Н. Бердяев. Логику саморазвивающегося онтологического Абсолюта у них все сильнее вытесняет логика “троичности”[309], скорее напоминающая концепцию Бога, стоящего “над бытием”, или Бога “иного, чем бытие”[310] Э. Левинаса, нежели онтологическую философию, которая была по преимуществу сферой развития немецкой философской мысли[311]. Если бы онтологическая философия Соловьева не содержала в себе in писе идеи “Другого, бесконечного” (в том значении, какое придавал этим понятиям Левинас), на ее почве со временем не смогла бы произрасти “тринитологическая” и “пневматологическая” интуиция Булгакова или Флоренского. В этой связи Булгаков совершенно правильно заключает:
“Ясно, – как настаивал в своих “Тихих думах” С. Булгаков, – что почти все величайшие философы высшую основу мира видели в Боге и искали Бога, ибо разумные поиски Бога и являются ведь истинной задачей философии. Все великие немецкие философы (кроме Шопенгауэра) также признавали христианство единственной истинной религией, ниспосланной в откровении Божьем. Однако все различие между ними и Соловьевым имеет своим источником именно способ утверждения данной мысли. Это различие заключается в том, что, в то время как системы только уделяют место христианству, только соглашаются с ним, философия Соловьева сама является христианским учением. Поэтому в то время как Бог в философии Запада появляется то как постулат практического разума у Канта и Фихте, то как логическая основа в панлогизме Гегеля, то сливается с миром до полного отождествления с ним у Спинозы, в философии Соловьева высшая основа бытия выявляется как живой Бог, заключающий в себе всё и в то же время абсолютно особенный, индивидуальный, появляющийся на свет в обличии Бога-Слова, явившегося в данный момент и в данном месте, чтобы спасти мир и ввести в этот мир религию Богочеловечества”[312].
Поэтому правы исследователи, такие, как, например, А. Кожев или А. Лосев, которые считают, что метафизику Соловьева нельзя свести к учению Шеллинга прежде всего потому, что она является у Соловьева неразрывной частью учения о Богочеловечестве[313].
У Соловьева, начиная с его трактата “София”[314], позволяющего проникнуть в “эмбриологию” (А. Лосев) его философского творчества в произведениях теософического периода[315] (Философские основы общего знания, Критика отвлеченных начал, Чтения о Богочеловечестве, III часть La Russie et l’Eglise Universelle), и вплоть до трудов последнего периода его жизни, где он склоняется не только к неоплатоновской, но порой и к пантеистической терминологии[316], отношения между Богом и миром представлены в высшей степени как надличностные (“абсолютные” в том смысле, на какой уже указывалось выше) и вместе с тем как относительные, личностные. “Внеперсональное” в метафизике Всеединства Соловьева, видимо, не исключает персонального[317].
Бог, утверждает Соловьев, оставаясь внеличностным в измерении своей “абсолютности” в глубине своей тройственной жизни выступает в глубочайших личных связях, а через вселение в человека – в особых, личных связях и с человеком. В Иисусе, говорит Соловьев, воплотился не Абсолют (что было бы логически невозможно), а Бог-Слово, имеющий персональный характер. Поэтому Соловьев неустанно подчеркивает, что Бог “помимо Христа” “помимо Богочеловека”, то есть вне Христа-человека, не имеет для нас никакой “действительности”[318]. Именно “факт” Воплощения Бога в человека придает реальный характер д раме человеческого и космического зла, и если бы не это Воплощение и не личное заинтересованное участие Бога в борьбе со злом, то и личное заинтересованное участие человека в этом деле утратило бы свой реальный, действительный – “фактический” смысл. Поэтому окончательной, решающей движущей силой противодействия злу в мире, в истории и в человеке у Соловьева выступают синергия и Богочеловечество, то есть совместные действия и двустороннее сотрудничество Бога и человека в борьбе со злом, а такой подход, такая установка уже исключают чистый имперсонализм. Эта установка исключает также перспективу самопроизвольного, автоматического возвращения мира к Богу, – перспективу, в которой роль человека сводится к роли пассивного свидетеля, наблюдателя, что подтверждает истину, выраженную словами Г.У. фон Бальтазара: “Только там, где Бог выступает как личность, человек тоже всерьез воспринимается как личность”[319].
“Пантеизм”, о котором В. Зеньковский пишет как о Фатуме всех философов Всеединства, у автора Чтений о Богочеловечестве не выглядит как последнее слово метафизики Абсолютного. Значит, правильно писал один из наиболее творческих продолжателей учения Соловьева о Всеединстве, Л. Карсавин, что учение об Абсолюте в христианстве превыше различия между Творцом и тварью, именно поэтому христианство и завершает пантеизм и теизм. Может быть, поэтому более подходящим в данном случае термином был бы не “пантеизм”, а “панэнтеизм” и не “монизм” а, как предлагает Зеньковскии, монодуализм[320].
2. Абсолют в действии
Рассмотрение взглядов Соловьева на соотношение между Абсолютом и злом начнем с его юношеского трактата (философского диалога) “София”. Этот трактат, представленный в форме диалога между Философом и Софией, заключает в себе его размышления о природе Абсолютного, а вместе с тем о зле и способах противодействия злу. Итак, на вопрос Философа, чем же по сути своей является Абсолют (“абсолютное начало”), София дает ответ, основанный на принципах так называемого “отрицательного богословия” (строящегося на суждениях “от обратного”): это не есть “бытие” и не может быть понято как бытие, поскольку это есть высшее над бытием начало (Superens, hyperousios), а если бы Абсолют сам “был бытием, получилось бы его бытие вне всякого бытия, что нелепо”[321]. “Начало бытия, – объясняет София, – не может быть понято ни как “бытие” ни как “небытие” ибо “небытие” предполагает нехватку, лишенность чего-либо, отсутствие, недостаток, что невозможно из самого определения Абсолюта. Стало быть, Абсолют может быть только неким tertium, чем-то, что стоит над антиномией “бытия” и “небытия”, а такой субстанцией является то, что Плотин определяет как “Единое”, в то время как Каббала обозначает это термином “En-sof”[322]. Существует То, что на самом деле не является “бытием”.
Из этого понятия Абсолюта Соловьев выводит дедуктивным способом, на гегелевский манер, следующее его определение. В Философских началах цельного знания он определяет Абсолют как “Ничто” и “Всё”. Соловьев пишет:
“…абсолютное есть ничто и всё: ничто – поскольку оно не есть что-нибудь, и всё – поскольку оно не может быть лишено чего-нибудь. Это сводится к одному и тому же, ибо всё, не будучи чем-нибудь, есть ничто, и, с другой стороны, ничто, которое есть (положительное ничто), может быть только всем. Если оно есть ничто, то бытие для него есть другое, и если – вместе с тем – оно есть начало бытия (как обладающее его положительной силой), то оно есть начало своего другого. Если бы абсолютное оставалось только самим собой, исключая своё другое, то это другое было бы его отрицанием, и, следовательно, оно само не было бы уже абсолютным. Другими словами, если бы оно утверждало себя только как абсолютное, то именно поэтому и не могло бы им быть, ибо тогда его другое, неабсолютное, было бы вне его как его отрицание или граница; следовательно, оно было бы ограниченным, исключительным и несвободным. Таким образом, для того, чтобы быть, чем оно есть, оно должно быть противоположным для себя самого или единством себя и своего противоположного…”[323]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева"
Книги похожие на "Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ян Красицкий - Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева"
Отзывы читателей о книге "Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева", комментарии и мнения людей о произведении.