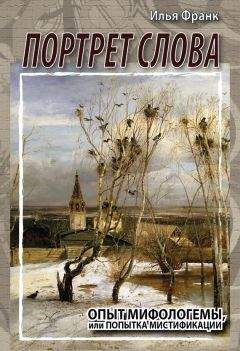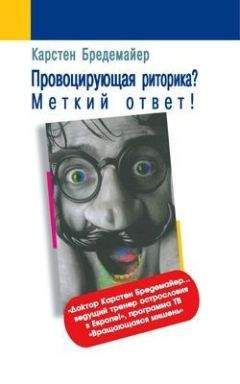Илья Кукулин - Машины зашумевшего времени

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Машины зашумевшего времени"
Описание и краткое содержание "Машины зашумевшего времени" читать бесплатно онлайн.
Эта книга — попытка заново выстроить историю русского модернизма через историю монтажа. Развитие монтажа в культуре XX века получило мощный импульс после изобретения кинематографа и превращения его в модный вид искусства. Аналоги киномонтажа в 1920‐е годы сложились в других видах искусств — литературе, плакатной графике, театре. У разных авторов и в разные периоды он используется то как локальный прием, то как последовательный метод, то как целостная эстетика. В 1930–2000‐е годы монтажные методы неоднократно изменяли свои функции и семантику. Следя за тем, как они от десятилетия к десятилетию то становятся почти незаметными, то вновь используются в самых разных контекстах, можно увидеть принципиально новые сюжеты в развитии искусства конца XIX–XXI веков, от Стефана Малларме до интернетных коллажей, составленных из блоговых заметок и видеозаписей. Эта книга рассказывает о том, как монтаж сначала стал «стилем эпохи» 1920‐х годов в самых разных странах (СССР, Германия, США…), а после все больше оказывался нужен неподцензурной словесности и «альтернативным» направлениям в кино и визуальном искусстве. Среди героев книги — Дзига Вертов и Артем Веселый, Сергей Эйзенштейн и Александр Солженицын, Эль Лисицкий и Саша Соколов, Энди и Лана Вачовски и Павел Улитин.
Тарковский, режиссер, предельно чуждый Годару по интонации, по задачам, по отношению к искусству, в этот же период постоянно прибегает к цитированию картин европейских мастеров, неподвижно возникающих на экране и придающих действию надвременной, надисторический смысл — в фильмах «Солярис» (1972) и «Зеркало».
Еще один автор, прибегающий уже не к демонстрации картины, а к включению в монтажное стихотворение экфрасиса, описывающего такую картину как историчный знак, — Давид Самойлов. В 1973 году он пишет стихотворение «Свободный стих» — это уже не первый его верлибр с этим названием. Как справедливо замечает критик и историк литературы Андрей Немзер, Самойлов ресемантизировал название «свободный стих», превратив его из указания на стиховедческие характеристики текста в своего рода квазижанр[991]. Это исторически важное, хотя и шутливое по тону стихотворение написано с использованием монтажных приемов нового типа: в нем намеренно смешаны приметы разных эпох. Их столкновение (конфликтный паратаксис) и выполняет функции монтажа.
В третьем тысячелетье
Автор повести
О позднем Предхиросимье
Позволит себе для спрессовки сюжета
Небольшие сдвиги во времени —
Лет на сто или на двести.
В его повести
Пушкин
Поедет во дворец
В серебристом автомобиле
С крепостным шофером Савельичем.
[…]
Читатели третьего тысячелетия
Откроют повесть
С тем же отрешенным вниманием,
С каким мы
Рассматриваем евангельские сюжеты
Мастеров Возрождения,
Где за плечами гладковолосых мадонн
В итальянских окнах
Открываются тосканские рощи,
А святой Иосиф
Придерживает стареющей рукой
Вечереющие складки флорентинского плаща[992]
Указание на ядерную бомбардировку Хиросимы и «нас», рассматривающих «евангельские сюжеты», делает скрытым центром сюжета современность, пронизанную страхом и чувством психологической травмы: если Хиросима — знак перелома времен, то «Послехиросимье» — это время, когда у сверхдержав есть ядерная бомба и люди боятся ее применения. Стихотворение имеет историософски-компенсаторный смысл: Самойлов в нем — пусть и иронически отстраняясь от своих слов — восстанавливает движение истории, соединяя элементы разных эпох в одном бриколаже и затем объявляя этот бриколаж историческим по своему содержанию — таким же, как картины мастеров Возрождения, посвященные вневременным евангельским сюжетам.
Конец 1980-х — 2000-е: «телесная» реанимация истории
В СССР переживание кризиса «больших нарративов» до конца 1980-х имело особо острый характер. Чувство их исчерпанности сложилось в СССР тогда же, когда и на Западе — в начале 1970-х. Об этом свидетельствуют футурологические работы диссидентов: «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (июнь 1968[993]) А. Д. Сахарова и «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» (1969) А. А. Амальрика. Однако «большой нарратив» советской истории оставался принудительно навязываемым дискурсом власти, и любые попытки его публичного оспаривания или подрыва карались репрессиями — от увольнения с работы до заключения в лагерь[994]. Уклонение от этого «большого нарратива» в 1970-е годы осуществлялось с помощью языков частного общения, а в публичном словоупотреблении — с помощью «приватных субверсий», при которых в стандартные риторические конструкции вкладывалось новое содержание[995]; впрочем, в публичном пространстве такие субверсии могли привести к разного рода неприятностям. В целом это уклонение никогда не было последовательным, если только человек не изобретал для себя искусственно сконструированную интеллектуальную позицию, при которой его сознание становилось бы предметом отстраненного анализа так же, как и сознание других советских людей.
Но такую практику было бы точнее назвать уже не уклонением, а скорее «гражданским неповиновением» господствующему (и в социальном, и в политическом смысле) нарративу. Примерами такого «неповиновения» были разные типы неподцензурной эстетики, основанные на рефлексии языкового употребления (творчество П. Улитина, концептуализм, поэзия Е. Сабурова, М. Айзенберга, В. Кривулина, А. Драгомощенко, Е. Шварц, О. Седаковой и др.), или критическое исследование сознания в философии М. Мамардашвили, А. Пятигорского или Д. Зильбермана (впрочем, последние два в 1970-е годы эмигрировали).
Перестройка первоначально привела к карнавальному смешению публичного дискурса, который мертвел на глазах (так как все меньше поддерживался давлением репрессивной системы), с частными языковыми практиками. Это смешение привело к эпидемическому распространению шуток, карикатур, художественных произведений, обыгрывающих такое нарушение прежде нерушимых языковых конвенций — как, впрочем, и вообще очень жестких границ между разными сферами жизни в СССР[996]. Такого рода шутки часто бывали очень похожи на «домашние» варианты концептуалистских работ — но и специфически концептуалистская ирония в эти годы стала понятной гораздо большей аудитории, чем прежде. Массовое интеллигентское сознание было, можно сказать, инфицировано стихийным концептуализмом. Этот процесс стал возможным потому, что в этот период идеологические знаки стали восприниматься именно как знаки, имеющие конвенциональный смысл и всегда чреватые насилием.
«Лобовое столкновение» дискурсов в искусстве периода перестройки часто принимало форму монтажа, но этот монтаж был, если можно так сказать, непредумышленным: чаще всего он оказывался следствием не анализа тех или иных языков или продуманной эстетической позиции, но просто результатом наблюдений над «сорвавшейся с петель» языковой и социальной реальностью. Монтаж в искусстве возникал из необходимости запечатлеть семиотику повседневной жизни, превратившейся в алогичный (с советской точки зрения) ассамбляж частного и публичного. Впрочем, некоторые авторы, генетически связанные с неподцензурной литературой, научились демонстрировать этот ассамбляж с помощью концептуалистской техники анализа языков — например, поэты Нина Искренко и Владимир Друк.
СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА ПОНЕСЛА
Мы долго ждали этого момента
Все волновались
вдруг не будет прецедента
А тут она взяла и понесла
И словно по команде
в тот же час
вдруг
ПОНЕСЛА СОВЕТСКАЯ НАУКА
Мы все гадали
в чем здесь подоплека
и есть ли недвусмысленная связь
[…]
А к пятнице стряхнули скорбь
с чела
и выдали талоны на печенье
Общественность вздохнула
с облегченьем
и встала в очередь.
Да там и понесла
Стихотворение основано на столкновении разных смыслов слова «понесла» в публичном и частном словоупотреблении: в частном — «понесла из магазина» нечто дефицитное, что туда завезли, и «забеременела» (значение, в 1980-е годы уже воспринимавшееся как устаревшее, но все же известное всякому хоть сколько-нибудь образованному человеку из классической литературы), в публичном — часть клишированного оборота, начинавшего советские некрологи в прессе: «Советская культура/наука понесла тяжелую утрату…»
Между давлением господствующего нарратива и всеми публичными языками советского времени (а часто — и приватными) у чутких людей образовалась аффективно окрашенная ассоциативная связь. После краха советской власти в 1991 году эта связь позволяла опознать советские языки как историчные и репрессивные по своему характеру. В 1970-е годы обе эти особенности советских языков могли быть предметом анализа — например, в вынужденно подцензурных работах М. Чудаковой и неподцензурных исследованиях филологов-эмигрантов[998], — но только после 1991 года они стали предметом отстраненного переживания, как элемент прошлого.
Едва ли не первой эстетической реакцией на этот уход советского языка в прошлое стал эксперимент в области монтажа — уже совершенно осознанный и даже демонстративный. В том же 1991 году ленинградский неофициальный кинокритик Олег Ковалов (р. 1950) выпустил фильм «Сады скорпиона». В 1980-е годы Ковалов изредка снимался в советском кино, но в художественных кругах Ленинграда больше всего был известен в другом качестве — как лектор, выступавший в кинотеатре «Спартак» перед показами труднодоступных западных фильмов, не демонстрировавшихся в СССР по причине излишне сложной эстетики или «неправильного» мировоззрения режиссеров[999].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Машины зашумевшего времени"
Книги похожие на "Машины зашумевшего времени" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Илья Кукулин - Машины зашумевшего времени"
Отзывы читателей о книге "Машины зашумевшего времени", комментарии и мнения людей о произведении.