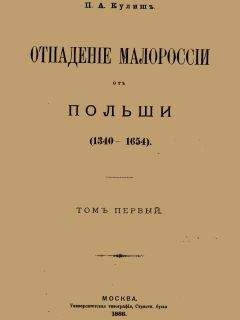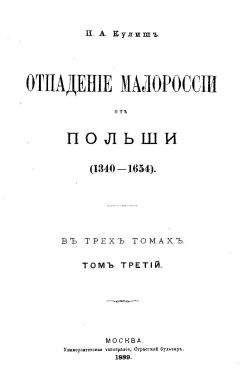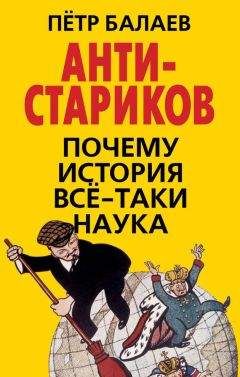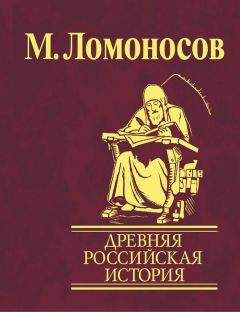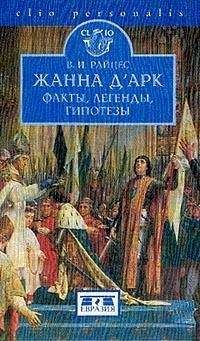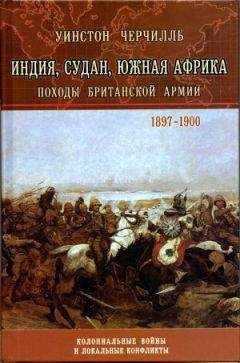Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 1

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "История воссоединения Руси. Том 1"
Описание и краткое содержание "История воссоединения Руси. Том 1" читать бесплатно онлайн.
К этому желчному и острому на язык писателю лучше всего подходит определение: свой среди чужих, чужой среди своих. С одной стороны – ярый казакофил и собиратель народного фольклора. С другой – его же беспощаднейший критик, назвавший всех кобзарей скопом «п’яними і темними», а их творчество – «п’яницькою бреходурнопеєю про людожерів-казаків».
П.А. Кулиш (1819-1897) остается фаворитом "української національної ідеології”, многочисленные творцы которой охотно цитируют его ранние произведения, переполненные антирусскими выпадами. Как и другие представители первой волны украинофильства, он начал свою деятельность в 1840-е годы с этнографических и литературных изысков, сделавших его "апостолом нац-вiдродження”. В тогдашних произведениях Кулиш, по словам советской энциклопедии, "идеализировал гетманско-казацкую верхушку”. Мифологизированная и поэтизированная украинская история начала ХIХ в. произвела на молодого учителя слишком сильное впечатление. Но более глубокое изучение предмета со временем привело его к радикальной смене взглядов. Неоднократно побывав в 1850-1880-е годы в Галиции, Кулиш наглядно убедился в том, что враждебные силы превращают Червонную Русь в оплот украинства-антирусизма. Борьбе с этими разрушительными тенденциями Кулиш посвятил конец своей жизни. Отныне Кулиш не видел ничего прогрессивного в запорожском казачестве, которое воспевал в молодости. Теперь казаки для него – просто бандиты и убийцы. Ни о каком государстве они не мечтали. Их идеалом было выпить и пограбить. Единственной же прогрессивной силой на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляшским засильем, вчерашний казакофил признает Российскую империю. В своих монографиях "История воссоединения Руси” (1874-77) и "Отпадение Малороссии от Польши” (1890) Кулиш убедительно показывает разлагающее влияние запорожской вольницы, этих "диких по-восточному представителей охлократии” – на судьбы Отчизны.
Кулиш, развернув широкое историческое полотно, представил казачество в таком свете, что оно ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит. Ни светская, ни церковная власть, ни общественный почин не причастны к образованию таких колоний, как Запорожье. Всякая попытка приписать им миссию защитников православия против ислама и католичества разбивается об исторические источники. Данные, приведенные П. Кулишем, исключают всякие сомнения на этот счет.
Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого - главы Ислама. С крымскими же татарами, этими "врагами креста Христова", казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкупе ходили на польские и на московские украины.
На Кулиша сердились за такое развенчание, но опорочить его аргументацию и собранный им документальный материал не могли. Нет ничего удивительного, что с такими мыслями даже в независимой Украине Кулиш остается полузапретным автором. «Черная рада» включена в школьную программу. Но уже предисловие к ней, где автор говорит о политическом ничтожестве гетманов, ученикам не показывают. Что же касается исторических сочинений Кулиша, то их попросту боятся издавать.
Обращение к нему и по сей день обязательно для всякого, кто хочет понять истинную сущность казачества.
Эти чувства можно проверить и на ближайшем к нам времени. Записанный польским геральдиком Папроцким и повторенный польским историком Шайнохою рассказ о том, как окатоличилась холмская русь, выводит на сцену спокойное население землевладельцев XVI-го века, из которых одни шли за православным епископом холмским, а другие обратились в латинство подобно его брату, ксензу официалу. Отобрание церковных имений у православной епископии в пользу латинского бискупства возбудило ненависть и вражду между соперничающим духовенством, и отразилось на общественной и семейной жизни благословенного дарами природы уголка; соседи прервали между собою свидания, родные братья, русский владыка и польский ксенз официал, ненавидели друг друга смертельно, и не призадумались бы возжечь между двумя паствами кровавую войну, лишь только бы явились удобовоспламенимые материалы. Но и того довольно, что холмский владыка не только брата, да и крещённого братом по латинскому обряду племянника называл бисовым ляхом [80]. Этот вышедший на явь случай, один из множества забытых, дает понятие о том, как натурально сердца русских и поляков делались игралищем соперничающего духовенства, разъяренного противоположными интересами.
Захват Червонной Руси и фактическое основание в ней латинских епископств во времена Казимира III, Людовика Венгерского и Владислава Опольского не уменьшили застарелой вражды, охватившей представителей двух народностей еще до татарского нашествия, равно как не уменьшило ее отторжение Ягайла от восточной церкви и последовавшее за тем нахальное крещение християн греческого обряда в латинскую веру, наравне с язычниками, с целью, прежде всего и после всего, экономическою. Предания о сценах вроде тех, которые, без сомнения, имел в памяти Кадлубек, были живы между поляками через два-три поколения после Ягайла, и самая яркость красок, которыми они писывали русинов, жаждавших польской крови, свидетельствует, что их собственные сердца не были чужды такого же, привитого им духовенством, ожесточения. При королевском дворе, например, в Кракове, рассказывали, около 1573 года, что будто бы, во время осады Луцка, при Владиславе Ягайле, русины, в виду осаждающих, перерезали горло одному пленному юноше польскому, самому красивому из всех пленных, и начальные люди луцкие выпили по глотку горячей крови, когда он еще дышал; потом разрезали ему живот, вынули сердце с внутренностями, положили в большой ящик с горящими угольями и окурили дымом этой мрачной жертвы все углы крепости, произнося какие-то заклинания, которые, по их убеждению, должны были освободить город от осады. Прибавляемая к рассказу характеристика русинов, как народа "во все времена преданного магии, чарам и другим гнусным колдовствам", ясно показывает сословие, более других заинтересованное в распространении подобных рассказов [81]. Основою же легенды, расцвеченной кровавым воображением поджигателей международной вражды, послужило повествование Длугоша об осаде Луцка в 1431 году, повествование, показывающее, что ожесточение свирепствовало с обеих сторон.
Здесь надобно указать на одно замечательное обстоятельство. Не смотря на то, что в Польше латинский язык, с начала XVI века, был распространен больше, нежели в Германии [82], где итальянские путешественники с трудом находили человека для -объяснения своих надобностей на этом общеупотребительном тогда между просвещенными людьми языке, — польская образованность стояла не только ниже процветавшей тогда итальянской образованности, но и ниже германской. Поляки, не расположенные, по отзывам проживавших между ними ученых иностранцев, к умственному труду, достигали большею частью, если не всегда, только среднего уровня образованности, и редко можно было встретить между ними человека с основательным знанием какой-нибудь науки. С понятием о шляхетском достоинстве не согласовалось у них достижение ученой степени, которая вела к занятию высших духовных мест. Добиваться звания доктора, по мнению высшего польского общества, свойственно было только мещанам или хлопам, и, если изредка паны получали ученые степени, то разве в заграничных университетах, как-бы тайком от «братьев шляхты». От этого происходило странное явление: рядом с ученым мужем, каким, например, был Ян Замойский, — среди высшего класса попадался весьма часто круглый невежда, и под внешней отделкой речи, о которой паны больше всего заботились, скрывалось изумительное незнание самых обыкновенных предметов науки [83]. По словам нунция Висконти, прожившего лет шесть при польском дворе, в Польше часто встречались такие епископы, которые не понимали даже значения слова епископ, иди по-польски бискуп. Этакие-то епископы скорее ученых пастырей церкви, которые в Польше были крайне редки, бросались на светские занятия и забавы, а исполнение духовных обязанностей своих предоставляли своим наместникам, за известное вознаграждение [84]. При таких обстоятельствах, реформационное движение, господствовавшее тогда за границею, в немецких землях, отразилось на Польском государстве, прежде всего, небрежением об интересах религии в среде самого духовенства, которое, как нарочно, было приготовлено к тому самими королями, или вернее — подаваньем из их рук «духовных хлебов». Опаты и бискупы отличались больше экономическими и казначейскими способностями, нежели уменьем и старанием распространять в обществе благочестие, так что даже нунций Маласпина советовал Сигизмунду III выбрать ведателя казны его из этого «очень богатого» класса людей, а не из светских, не смотря на то, что, по его же замечанию, эти последние больше заботились о торговых и земледельческих интересах, нежели о поддержании добрых нравов в семействах, следовательно были финансистами опытными. По словам того же нунция, Виленское епископство семь лет не имело ни бискупа, ни суфрагана. «Еретики», говорит он, «забирают церковные имущества; в приходах нет пробощов; дети умирают без крещения; ересь усиливается; язычество поднимает голову. Виленский воевода [85] присвоил себе десять миль епископской земли, и лишь только умрет какой пробощ, отбирает у шляхты плебанию и грунты, принадлежащие приходскому костелу». Разноверие проявилось в Польше сперва под видом защиты «шляхетских вольностей», как противодействие арцибискупам и бискупам в подстрекательстве короля на едикты против диссидентов; магнаты, увлекаясь духом гражданской свободы, приняли проповедников нового учения под свое покровительство, и даже лучшие из духовенства, со всеми своими приходами, открыто объявили себя против римской церкви. Но, при поверхностной образованности польской шляхты, протестанство не замедлило сделаться модою в высшем классе общества, признаком образованности, вывескою современности понятий. Каждый пан избирал себе любое вероучение, из тех, которые, вместе с их прототипом лютеранством, приходили в Польшу и Литву из-за границы с воспитанною там знатною молодежью, наперерыв ловившею в Германии новые идеи помимо новых знаний. Читатель должен помнить, что в XVI веке наука тесно была соединена с богословием. Пробудив у народов потребность церковной реформации, она нашла в реформаторах новых, самых энергических деятелей. В обществе образовалось, так сказать, четыре факультета свободных наук, которые назывались: католичеством, отстраивавшим старую церковь, посредством новой науки; лютеранством, первым антагонистом старой церкви; кальвинством, старавшимся усовершенствовать новое вероучение, и арианством, которое на все три вероучения смотрело, как на собрание поповских вымыслов. Польский пан, воспитываясь или путешествуя за границею, считал себя обязанным принадлежать к одному из этих факультетов, но, с их поверхностным образованием, такие прозелиты обновленной веры не прибавляли силы воителям за религиозные убеждения; увеличивали только массу воюющих и вносили в общество сбивчивость понятий, которою, в Польше, весьма удачно воспользовались иезуиты. Следом за ветренною знатью, по известию кардинала Людовизио, отпадали от веры предков своих и другие миряне: кто — из желания стать на челе партии, а кто — в надежде снискать милость могущественного пана, иные — из корыстных рассчетов, а иные — из-за удовольствия жить, не стесняясь правилами католической церкви. Этот низший, зависимый слой польской шляхты тянул за собой мещан и хлеборобов, так как на одних он имел большое влияние, а над другими пользовался неограниченным правом суда и безсудья. Вообще, простанородье веровало в спасительное учение своей церкви лишь по преданию, а не то — переставало в него веровать вовсе, видя самую церковь заподозренною новаторами и оставленною на произвол судьбы духовенством. Если коренная польская шляхта, близкая к центрам администрации, плавала так мелко в славную эпоху европейской реформации и возрождения гуманизма, то что же сказать о Червонной Руси, Волыни и Украине? После падения Царьграда, греческое духовенство низошло весьма скоро до простой обрядности. Во всей Греции, сделавшейся Турциею, нигде не преподавались так-называемые свободные науки. Грамотность ограничивалась почти всюду уменьем читать богослужебные книги; для проповедей или других бесед с прихожанами попы употребляли язык румунсний, болгарский или турецкий. Естественно, что просвещение оттуда к русскому духовенству не приходило. Могло бы оно приходить с Запада; но польский пан для пана русского был образцом умственной лени и мелочного старания казаться, а не быть, чем-то; местное же духовенство слишком было раздражено посягательством латинских прелатов на русские церковные имущества, чтобы в общении с ним заимствоваться от него хоть отрывками знаний. Притом, за исключением тех лиц, которые, так же как и латинские прелаты, получали из королевских рук «духовные хлебы», следовательно за исключением шляхетной иерархии, это были по большей части бедняки, принужденные обрабатывать землю собственными руками. Даже спустя много лет после основания школ, похожих на духовные семинарии, в Остроге, во Львове, в Киеве и других городах, митрополит Петр Могила находил в русских церквах такие славянские книги, которые были напечатаны противниками православия да еретиками, под видом богослужебных православных, и которые русские священники, по его выражению, не очень-то понимали. До распространения острожских и других русских изданий, в церквах употреблялись книги рукописные, которых производством занимались большею частью самоучки-дяки при церквах, как это можно видеть, например, из духовного завещания православного пана Загоровского, назначившего содержание приходскому дяку, чтобы он, сверх обучения детей грамоте, "книги, яких церковь пилне потребует, з доброго ззоду уставичне писал, абы в каждый тыйдень по три тетради дестных справедливо, а не фалшиве, написывал", на что отпускалось бы ему известное количество «купорвасу». Тот же Загоровский — прибавим кстати — в духовном завещании своем, составленном 1577 года, постановил, чтобы в церкви говорились к народу проповеди. Каковы могли быть эти проповеди при таком положении дел, что даже богослужебные книги писались, а потом и печатались, без просвещенного руководства, — не мудрено вообразить. Один сельский поп под Львовом (рассказывает известный Сакович, в книге своей Epanorthosis) не знал, что Рей был светский писатель, и выписку из его сочинения принял за проповедь, почему и обратился к своей пастве с такими словами: „Послухайте, християне казання святого Рея“. Случившийся при этом местный шляхтич, впоследствии францисканец, воспользовался невежеством проповедника и содрал с него пару волов за причисление польского сатирика к лику святых. Рассказ этот не покажется выдумкою тому, кто знает, что между русскими попами были тогда и такие, которые вовсе не знали грамоты.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "История воссоединения Руси. Том 1"
Книги похожие на "История воссоединения Руси. Том 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 1"
Отзывы читателей о книге "История воссоединения Руси. Том 1", комментарии и мнения людей о произведении.