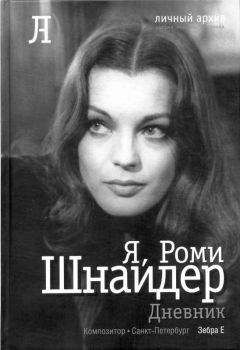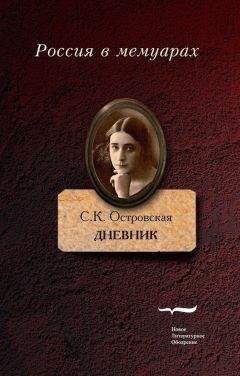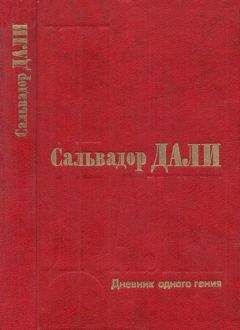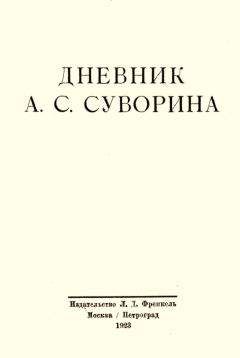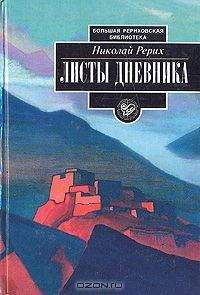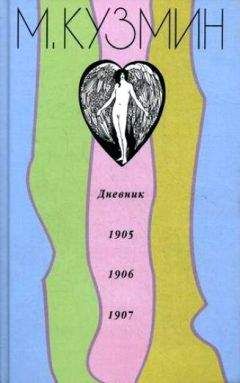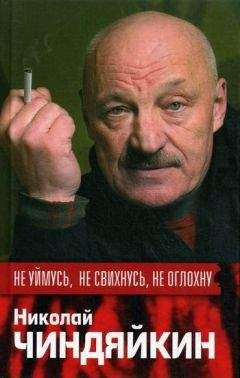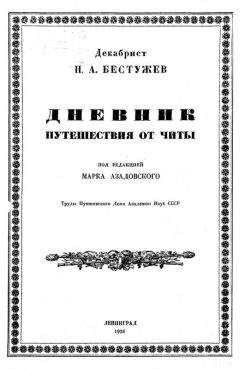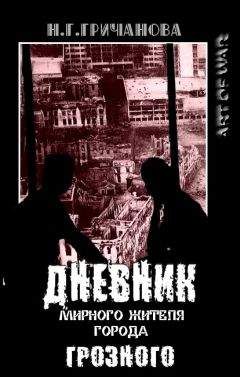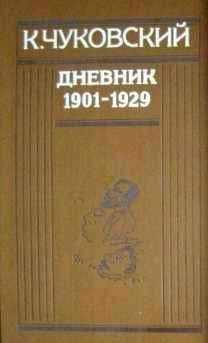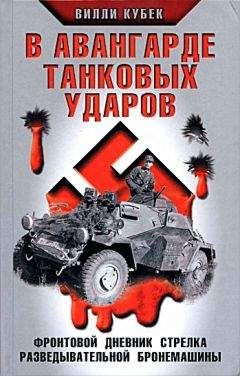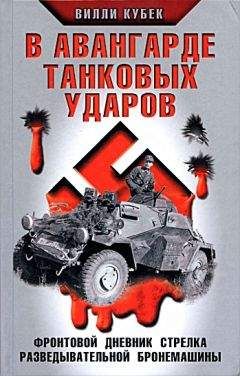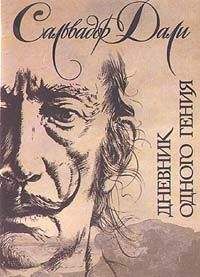Николай Шубкин - Повседневная жизнь старой русской гимназии
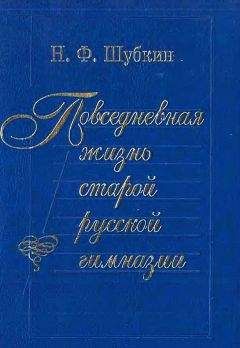
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Повседневная жизнь старой русской гимназии"
Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь старой русской гимназии" читать бесплатно онлайн.
Автор публикуемого дневника — Николай Феоктистович Шубкин с 1907 по 1937 г. преподавал литературу и русский язык в гимназиях и средних школах города Барнаула. «Дневник словесника» показывает, как осознавали себя, свою деятельность, свою страну русские интеллигенты тех лет.
«Дневник словесника» любопытен и как социально-педагогический документ, рисующий как бы изнутри жизнь предреволюционной школы в заштатном сибирском городке. Публикуемые записки — подлинный документ своей эпохи. И вместе с тем это напоминание о непреходящей ценности социально-нравственных функций, исполнять которые призваны люди этой профессии, этой судьбы.
Вообще в этом сближении педагогов и учениц не на официальной почве я вижу одну из самых симпатичных сторон таких ученических вечеров.
16 февраля
Теперь масленица. Народ гуляет. Закрыты и магазины, и все правительственные учреждения. А я по-прежнему принужден сидеть почти целые дни за проверкой ученических сочинений…
17 февраля
Сегодня возобновились занятия, но ученицы «раскачиваются» с трудом. Особенно мало было в VIII классе, да и то просили их не спрашивать. Я, заранее учитывая это послепраздничное настроение, принес сегодня номер «Свободного воспитания», и на уроке методики мы читали одну статью о школе нового типа. Некоторые ученицы, правда, начали было разговаривать и перешептываться, но когда я сказал: «Может быть, неинтересно», — ученицы запротестовали, и разговаривавшие после этого тоже стали слушать.
В VII классе я раздавал классные работы. При проверке этих сочинений оказалось, что ученицы «с Камчатки» списали свою работу («Чичиков и Молчалин») с учебника; в том числе моя «приятельница» по прошлому и позапрошлому году Е-ва, ученица ленивая и неразвитая, но очень обидчивая (на днях она отказывалась у меня от урока, якобы по причине болезни, тогда как накануне была вместе с матерью в кинематографе). Раздавая сочинения, я — не называя фамилий — сказал, что «две особы» списали свои сочинения, и сопоставил их поступок с поведением Чичикова, о нравственной низости которого они писали. «Разница только в том, — добавил я, — что Чичиков мошенничал все-таки умно; здесь же было сделано глупо, потому что если Вы знаете свой учебник, то неужели учитель не знает его?» Все это я говорил, отнюдь не сердясь, и класс реагировал на это смехом. Как чувствовали себя виновные, не могу судить; но никаких возражений или эксцессов с их стороны не было.
18 февраля
Сегодня на конференции разбирались пробные уроки моих «словесниц» по грамматике. Председатель, мало смысля в методике преподавания, хочет, видимо, все-таки показать себя и выступает с замечаниями по меньшей мере курьезными. Сегодня, например, он поставил в вину практикантке, что она писала «т» как j, и «ъ» как t. Другая оказалась виноватой в том, что употребляла общепринятые названия «твердый и мягкий знак», тогда как, по мнению председателя, это названия не научные, и называть эти буквы надо «ер» и «ерь». А когда я указал, что ведь и «р» называется «ер», и при одинаковом названии ученики могут смешивать эти буквы, председатель недовольно заметил, что «р» называется «эр», а «ъ» — «ер». Но к чему вводить в современную школу эти тонкости старинных названий — бог весть. И без того в области грамматики у нас много лишнего балласта, из-за которого не успевают усвоить даже самого необходимого. Да и «научность» всего этого более чем сомнительна. Названия «ер» и «ерь», введенные еще в X веке, употреблялись тогда, когда «р» называлось «рцы», т. е. смешения с этой буквой произойти не могло. Употребляя же теперь латинские названия букв («эр», «эс» и т. д.), мы почему-то должны, несмотря ни на какие неудобства, называть «ъ» и «ь» по-старинному. Почему же тогда и «ы» не называть, как в старину, «сры»? Пусть филологи, разбирая древнерусские памятники, где «ъ» и «ь» имели совсем другое значение, возмущаются названием «твердый и мягкий знак», и предпочитают старинные названия; мы, обучая современному русскому языку, вправе употреблять и современные названия, вполне удобные и соответствующие современному значению этих букв. И только такие псевдоученые мужи, как наш председатель, желая пустить пыль в глаза своей ученостью, могут предъявлять такие странные требования, далекие как от истинной научности, так и от живого учебного дела. Но нам, его подчиненным, приходится тем не менее со всем этим считаться. Придется даже по его приказанию следить за каллиграфией ученических работ и подчеркивать не только многочисленные орфографические и стилистические ошибки, но и неправильные начертания букв (вроде J и t), и это у учениц старших классов, т. е. тогда, когда почерк у них уже установился. Нашел, очевидно, наш сверхпедагог, что нам, словесникам, делать нечего!
Как успеть пройти все, что намечено
21 февраля
Подходит к концу уже третья четверть. Приходится соображать о том, как удобнее распределить материал, чтобы успеть пройти то, что намечено. Во всех почти классах я иду ныне с запаздыванием, хотя и так программы свои приходится с каждым годом сокращать. С одной стороны, приходится делать это под влиянием того давления, которое прямо или косвенно оказывает начальство; а с другой стороны, под влиянием тех повышенных требований, которые стали теперь предъявлять к грамотности в смысле орфографии. На эту орфографию я уделяю теперь в каждом классе по четыре урока в четверть; а в VI классе, сверх того, по одному уроку в неделю уходит на проверку списывания и предупредительные диктанты. В результате, разумеется, все остальное приходится урезывать и сокращать. В VI классе, например, ныне совсем выпустил Шиллера, и, пожалуй, Мольера; Байрона же придется скомкать. В VII классе не хватит времени на «Новь» Тургенева, а остальные его романы и критические статьи к ним придется проходить только бегло. Но всего ярче проявляется этот регресс в смысле урезывания курса в VIII классе. Три года назад мы проходили со словесницами: Герцена, Л. Толстого, Некрасова, Гл. Успенского и Чехова, притом проходили в общем довольно подробно. Глеба Успенского и Чехова пришлось вскоре бросить (после замечания из округа). Ныне — «страха ради иудейска» — выпустил и Герцена. У Толстого выбросил «Воскресение», сделал кой-какие выпуски и у Некрасова (например, стихотворения о печати). И все-таки, даже эту вдвое сокращенную программу едва успеваем пройти. И сам работаешь более вяло, и ученицы не очень усердствуют, ибо из преподавания приходится вынимать самое главное — душу. Не сметь говорить, о чем хочется, и так, как хочется, — и не можешь заразить своим чувством других. А тут еще и чисто внешние требования. Приходится гнаться не за интересом, не за знаниями, а за количеством отметок. Надо всех в четверть переспросить, надо всем выставить баллы. И вместо того, чтобы объяснять, вместо того, чтобы идти дальше, — все спрашиваешь и спрашиваешь, и спрашиваешь только на балл, только с целью проверки старых знаний.
Больно сознавать, что теперь, после нескольких лет работы, когда есть уже известный навык и опыт в деле преподавания, приходится идти не вперед, а все назад и назад.
22 февраля
Сегодня на педагогике в VIII классе ученицы несколько рассердили меня. Урок накануне был, по обыкновению, рассказан, изложен он и в учебнике. И тем не менее спрошенные сегодня ученицы отвечали из рук вон плохо. И притом не одна! Первой я спросил И-и, которой за два неудачных ответа в этой четверти я ничего не поставил. Когда она и сегодня начала «плести», я, раздосадованный, посадил ее. За ней была спрошена В-на, которой и за ту четверть было, Христа ради, поставлено 3–, хотя можно было поставить и два. Она при спрашивании И-и болтала и на один мой вопрос ответила, что не слыхала его. Когда я после И-и вызвал В-ну, она вскоре же сбилась и не могла повторить даже того, до чего добрались мы с И-и. На мой упрек за непослушание В-на довольно бесцеремонно стала это отрицать, хотя сама только что в этом созналась. Я посадил и ее. Третьей «жертвой» оказалась К-ая, которая и за вторую четверть и за репетицию получила 2, а в эту четверть все ускользала от спрашивания, то не являясь на урок, то выходя за дверь. С первых же шагов К-ая начала говорить нелепости, не будучи в состоянии отличить понятия от чувствований. Когда на вопрос о том, что такое понятие (логика пройдена еще в декабре), К-ая ничего не ответила, я — раздраженно сделав ей замечание — посадил и ее. Настроение и мое, и класса испортилось. И вот я спросил болезненную, слабенькую М-ву, которая, несмотря на свое нездоровье и частые пропуски уроков, поражает своей добросовестностью. Она, по обыкновению, блестяще, хотя и слабым, вялым голосом, ответила урок. Настроение сразу пошло на прибыль. Посадив ее, я рассказал дальше, причем за время рассказа успокоился и оживился. И урок кончился в бодром настроении. Баллов во время урока я, по обыкновению, не ставил. После же урока, здраво обсудив все происшедшее, я поставил М-вой 5, а 2 решил поставить только одной И-и как не знавшей урока в третий раз. Остальным же, учитывая свое настроение, которое могло отразиться и на них, на этот раз ничего не поставил.
Надо будет и впредь поставить себе за правило, никогда не выводить баллов сразу после ответа, за уроком, а лишь тогда, когда вполне успокоишься и сможешь объективно оценить и ответ, и все другие обстоятельства.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Повседневная жизнь старой русской гимназии"
Книги похожие на "Повседневная жизнь старой русской гимназии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Шубкин - Повседневная жизнь старой русской гимназии"
Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь старой русской гимназии", комментарии и мнения людей о произведении.