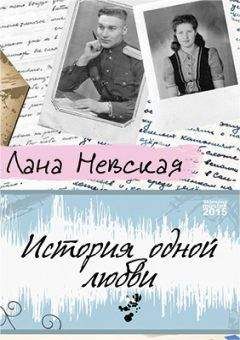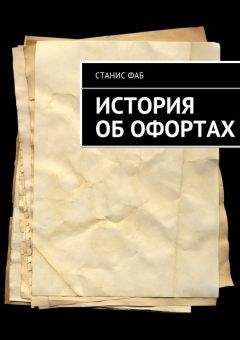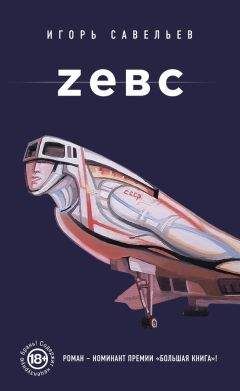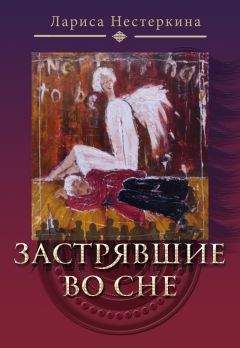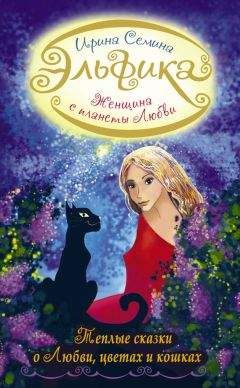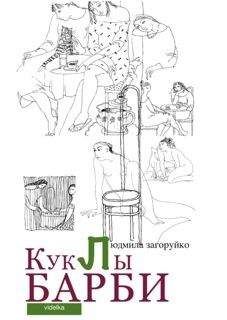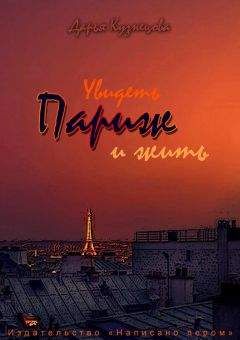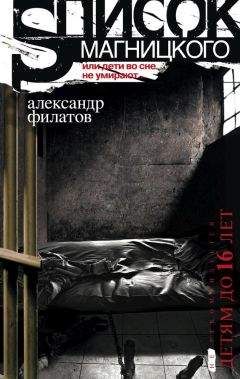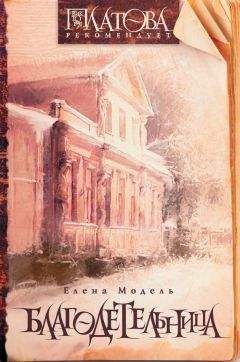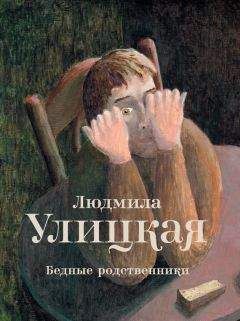Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Германтов и унижение Палладио"
Описание и краткое содержание "Германтов и унижение Палладио" читать бесплатно онлайн.
Когда ему делалось не по себе, когда беспричинно накатывало отчаяние, он доставал большой конверт со старыми фотографиями, но одну, самую старую, вероятно, первую из запечатлевших его – с неровными краями, с тускло-сереньким, будто бы размазанным пальцем грифельным изображением, – рассматривал с особой пристальностью и, бывало, испытывал необъяснимое облегчение: из тумана проступали пухлый сугроб, накрытый еловой лапой, и он, четырёхлетний, в коротком пальтеце с кушаком, в башлыке, с деревянной лопаткой в руке… Кому взбрело на ум заснять его в военную зиму, в эвакуации?
Пасьянс из многих фото, которые фиксировали изменения облика его с детства до старости, а в мозаичном единстве собирались в почти дописанную картину, он в относительно хронологическом порядке всё чаще на сон грядущий машинально раскладывал на протёртом зелёном сукне письменного стола – безуспешно отыскивал сквозной сюжет жизни; в сомнениях он переводил взгляд с одной фотографии на другую, чтобы перетряхивать калейдоскоп памяти и – возвращаться к началу поисков. Однако бежало все быстрей время, чувства облегчения он уже не испытывал, даже воспоминания о нём, желанном умилительном чувстве, предательски улетучивались, едва взгляд касался матового серенького прямоугольничка, при любых вариациях пасьянса лежавшего с краю, в отправной точке отыскиваемого сюжета, – его словно гипнотизировала страхом нечёткая маленькая фигурка, как если бы в ней, такой далёкой, угнездился вирус фатальной ошибки, которую суждено ему совершить. Да, именно эта смутная фотография, именно она почему-то стала им восприниматься после семидесятилетия своего, как свёрнутая в давнем фотомиге тревожно-информативная шифровка судьбы; сейчас же, перед отлётом в Венецию за последним, как подозревал, озарением он и вовсе предпринимал сумасбродные попытки, болезненно пропуская через себя токи прошлого, вычитывать в допотопном – плывучем и выцветшем – изображении тайный смысл того, что его ожидало в остатке дней.
А если бы, подумал, занавеси были не охристо-жёлтыми, а, к примеру, алыми? Он будто бы искал улики чего-то, что когда-то случилось именно здесь, и тут же выдумывал их…
Нет, алыми занавеси могли быть только у Махова.
Отразившись в зеркале спальни, вернулся в гостиную, раздвинул занавеси и обнаружил за пеленой тюля не окно, а балконную дверь с медной ручкой… Да, оставалось только выйти на тот самый балкон, который, столько лет дожидавшийся его приезда, так заботливо и надёжно поддерживали атланты.
Вышел на балкон и смотрел, смотрел на косо уходящую вдаль, тронутую солнцем на границе карниза с небом, залитую скользящим светом рустованную стену университета, на запиравшие уличную перспективу кроны каштанов… Блестела белая-белая полоска карнизной жести…
Странно всё, очень странно! Мистические соображения сопутствовали ему.
В этом университете, возможно, в аудитории, располагавшейся как раз за этой стеной, учился отец, корпел над химическими опытами дед?
О жизни деда-химика вообще ничего не знал, ничего… А отец исчез…
Но могли ли хоть что-то теперь рассказать об отце и деде, если бы прервался вдруг заговор молчания, запомнившие их камни, деревья?
И если бы могли, то как и что стали бы камни и деревья о них рассказывать? На каком языке? У пространств и твердокаменных форм был, догадывался он, свой язык, но язык этот надо ещё понять… Вот – жесть блестит, ну и что?
Потом – закрыл балконную дверь – картины… пузатые вазы с бликами, жирные цветы, выписанные до последнего лепестка, а рассматривать нечего, кроме рам… А от маховских холстов, от дымных боёв в Крыму, не мог оторваться…
– Юра, – позвала Соня, – скоро вернётся Шурочка, она в парке гуляет с Рози, придёт из больницы Александр Осипович, и тогда…
На светлой половине квартиры проживали Сонины – да и Юрины тоже – родственники, дальние родственники по отцовской линии: врач-кардиолог Александр Осипович Гервольский и его жена Шурочка, хохотушка, музыкантша.
– Ой, молоко убежало… – Соня метнулась к кухне.
* * *Вечно у Сони убегало молоко, подгорали яичницы, разваривались и лопались сосиски-сардельки.
Её, художественную, нервную и чересчур уж тонко организованную натуру, такие бытовые мелочи не занимали. Нехотя, с тяжёлыми вздохами и, что называется, спустя рукава, она, смирившись с биологической потребностью есть и пить, что-то варила-жарила-кипятила, потом, ругнув себя для проформы за безалаберность, машинально вытирала мокрой тряпкой испачканную плиту, думала при этом вынужденном занятии, наверное, о чём-то своём.
Может быть, вспоминала велосипедные поездки по Провансу? Её портативный этюдник всегда был привязан к багажнику велосипеда, который катил по следам Ван Гога, Сезанна…
А, может быть – две? три? – пражские прогулки с Францем и Максом, с которыми случайно познакомилась в 1910 году в Париже? Как-то в разговоре за столом у Гервольских Соня так и сказала. С Францем и Максом. Впрочем, тогда, когда прогуливалась Соня с двумя умными нервными молодыми людьми, их имена, такие обычные, произносились без придыханий и закатываний глаз; будничные прогулки по Градчанам с почти случайными знакомыми в своей насыщенной, богатой фантастичными, но краткими до мимолётности встречами и дружбами биографии она не относила к сколько-нибудь значительным эпизодам.
Другое дело – счастливые и краткие, как спазм – так сама и сказала, спазм, – муки с костюмами для Иды Рубинштейн, для «Пизанки» д'Аннунцио или совместная с Экстер работа над костюмами и декорациями для Камерного театра, встречи с Таировым…И где же, когда они могли встречаться? Что-то не так… И ещё Соня имела какое-то отношение – помогала Пикассо растирать краски? – к скандальной, восторженно встреченной поэтами-сюрреалистами, взбудоражившей Париж постановке в разгар Первой мировой войны дягилевского «Парада». «Во время того абсурдно-смачного безудержного кровопролития, – как-то, поясняя что-то Александру Осиповичу, вздохнула Соня, явно не склонная преувеличивать свою роль в искусстве, – только и оставалось, что скандалить на сцене, пытаясь перешибить все абсурды жизни». Юра под аккомпанимент Сониного голоса рассматривал групповую фотографию: на фотографии, собравшей много будущих знаменитостей – интересно было угадывать, кто есть кто, по молодым лицам, – не без труда удавалось отыскать и Соню в шляпе из чёрной поблескивавшей соломки с букетом цветов на тулье; фоном – двойная, по обе стороны от входной двери, витрина с книгами, вывеска: «Шекспир и компания». «Это Дина, ближайшая моя подруга, она потом вышла замуж за итальянского аристократа, по любви вышла, не испугалась угодить под власть Муссолини и… – с неё Соня обычно начинала представлять реальных героинь и героев своего фантастического парижского круга. – Что с Диной сталось в военные годы и после войны не знаю… Я перед отъездом в Москву отдала ей какие-то свои эскизы, зачем?» – машинально доставала папиросу из надорванной пачки. На той фотографии меж загадочными красавицами был набычившийся крепыш Пикассо, был даже длинный и тощий, как его же тросточка, Джойс, но Джойса, как понял Германтов, Соня почему-то не жаловала, а «Улисс», роман, взбудораживший в те годы художественный Париж и уж точно всех тех, кто позировал на фоне двойной витрины с книгами, ссылаясь на недостаточное для постижения Джойса знание английского, не читала…
Или, возможно, обречённо вытирая кухонную плиту, возвращалась она к встречам с Кокошкой, выездам на пленер – вот на стене подаренная ей акварель молодого Оскара Кокошки, ещё не ухнувшего в стихию экспрессионизма, – вполне реалистический этюд, могучие, с округлыми кронами, рыжие дубы на фоне далёких черепичных крыш; осень в предместьях Вены. Чудеса! Как сохранилась та акварель в передрягах, выпавших на Сонину долю?
– Мой Золотой Иерусалим, – усмехалась Соня, припоминая краткое посещение Палестины, нет-нет, не получилось из неё фанатической колонистки, недаром, наверное, кроме нескольких имён в пёстрой компании соискателей сионистского рая, вспоминались ей лишь грязь и густая пыль, хамсин – страшный колючий ветер из пустыни, скрип песка на зубах, оборванные арабы, разгружавшие в порту Яффо уголь…
И, между прочим, Соня жила в Венеции в палаццо Джустиниан, там же, где останавливался Пруст…
– Мы прибыли в Венецию в воскресенье, под звон всех колоколов… – едва начавшись, рассказ тут же обрывался.
Что ещё от неё услышал? Два слова о карнавале: на венецианках – лиловые шали, красные тюрбаны с перьями и белые птичьи носы.
И ещё два-три слова: чёрные лаковые лодки с загнутыми серебряными носами. «Только, – почему-то испытующе строго глянула, – только не вниз загнутыми, как птичьи носы на масках красоток, а вверх…»
Все её впечатления от Венеции? Не густо.
Да и как носы гондол могли быть загнуты вниз? Соня тем временем открыла флакончик духов «Сирень», машинально тронула стеклянной пробкой вялую шею, щёки…
– Венеция – красивая?
– Красивая? – переспросила Соня. – Даже не знаю… скорее по первому впечатлению – сказочно удивительная, восхитительная, вся слепленная из прелестных нелепостей, это же теперь вымечтанный, как сказка, выморочно-ненастоящий город. А если тут ли, там замрёшь, – как красиво, – то через миг дойдёт до тебя, что красота собрана из красивостей; правда, через пять минут оказываешься меж старых, облезлых, потемнело-отсыревших домов, чьи израненные фасады – самоя живопись. И – сердцу не прикажешь: однажды выглянула я из окна гостиницы – всё волшебно! Справа, совсем близко от меня, на фоне затенённого острова Джудекка, белела вылепленная солнцем церковь с пышными куполами, за ней – красно-кирпичная стена с пятном плюща, левее от Джудекки, на другом острове, повернулся фронтально ко мне антично-строгий портик монастыря… А пролив – яркий-яркий, сине-зелёный…
– Ты бывала во Палаццо Дожей?
– Бывала.
– Видела «Похищение Европы»?
– Видела… Дворец буквально лопается от картин и фресок, почему ты выделил одну картину?
– У Махова, соседа-художника, висела на стене репродукция, правда, чёрно-белая; он, по-моему, на неё молился.
– Мне лишь композиция понравилась, Веронезе – отменный композитор, а собственно живопись у него – искусная, но какая-то сладковатая; во всяком случае, чем-то необъяснимым для глаз моих подслащённая. И ещё, – сказала, – был подслащённый Рафаэль, всеми признанный, всеми воспетый… – Не иначе как для того, чтобы уязвить чересчур уж удачливого Рафаэля, она вспомнила о художнике Лоренцо Лотто, которого сперва, желая избавиться от соперника, Тициан интригами вытолкнул из Венеции в провинциальный Тревизо – за «сто первый километр»? – а потом, когда Лотто выполнил в Риме престижный папский заказ, умер заказчик, Юлий II, новый папа, Лев Х, повелел фрески Лотто уничтожить, освободить место для рафаэлевских Станцев…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Германтов и унижение Палладио"
Книги похожие на "Германтов и унижение Палладио" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио"
Отзывы читателей о книге "Германтов и унижение Палладио", комментарии и мнения людей о произведении.