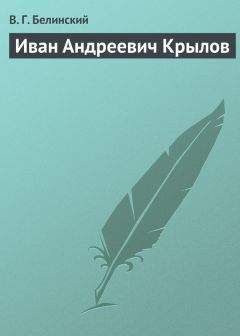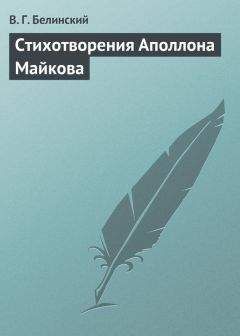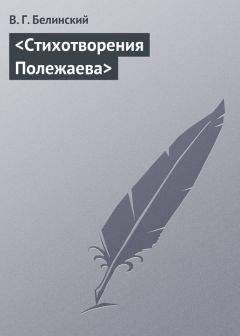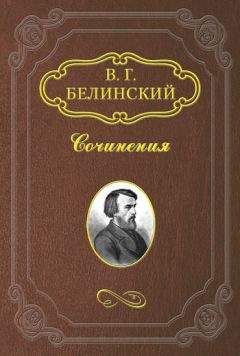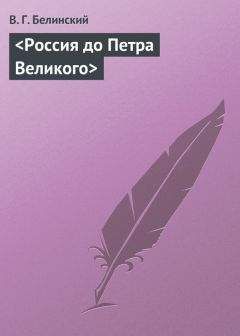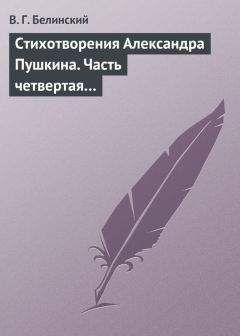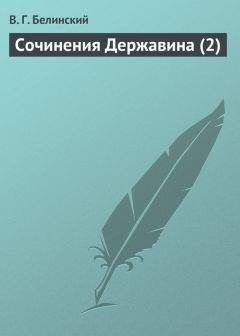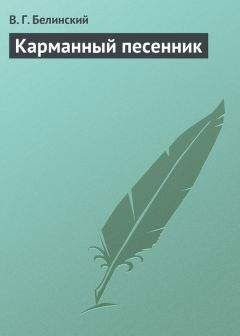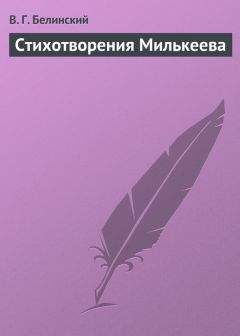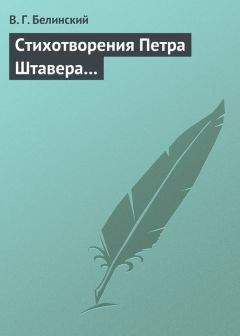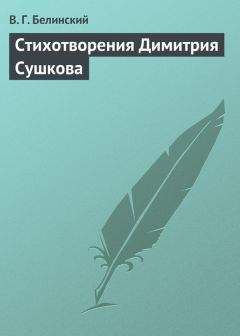Виссарион Белинский - <Статьи о народной поэзии>

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "<Статьи о народной поэзии>"
Описание и краткое содержание "<Статьи о народной поэзии>" читать бесплатно онлайн.
Цикл статей о народной поэзии примыкает к работе «Россия до Петра Великого», в которой, кратко обозревая весь исторический путь России, Белинский утверждал, что залог ее дальнейшего прогресса заключается в смене допетровской «народности» («чего-то неподвижного, раз навсегда установившегося, не идущего вперед») привнесенной Петром I «национальностью» («не только тем, что было и есть, но что будет или может быть»). Тем самым предопределено превосходство стихотворения Пушкина – «произведения национального» – над песней Кирши Данилова – «произведением народным».
Не говоря уже о том, что в этой поэме очень много – по крайней мере сравнительно с прежними – поэзии и силы в выражении, – в ней есть еще не только мысль, но и что-то похожее на идею. Эту поэму должно понимать как мифическое выражение исторического значения и гражданственности Новагорода. История Новагорода не могла дать содержания для чисто исторической поэмы; или, лучше сказать, государственная идея Новагорода не могла выразиться в историческо-поэтической форме и по необходимости должна была ограничиться смутными, неопределенными и дикими мифическими полуобразами, очерками и намеками. Точность и определенность – одни из главнейших и необходимейших качеств и условий истинной поэзии; но эти качества зависят от одного содержания: чем содержание существеннее, действительнее, субстанциальнее, тем и форма точнее и определеннее, образы яснее, живее и полнее. Всякая народная поэзия начинается мифами; но и мифы могут иметь свою ясность, определенность и, так сказать, прозрачность: только для этого необходимо, чтоб выражаемое ими содержание было общечеловеческое и заключало в себе возможность дальнейшего диалектического развития, а следовательно, и возможность служить содержанием для поэзии, развившейся и возросшей до своей апогеи – до художественности. Новогородская жизнь была каким-то зародышем чего-то, по-видимому, важного; но она и осталась зародышем чего-то: чуждая движения и развития, она кончилась тем же, чем и началась – чем-то, а что-то никогда не может дать определенного содержания для поэзии и по необходимости должно ограничиться мифическими и аллегорическими полуобразами и намеками. Новгород, вероятно, был колониею Южной Руси, которая была первоначальною и коренною Русью{155}. Колонии народов, находящиеся на низкой степени гражданственности, всегда бывают цивилизованнее своих метрополий: они составляются из самой предприимчивой части народа, которая, переселившись на новую почву и под новое небо, поневоле отрешается от ограниченности прежнего быта, открывает новые источники жизни, указываемые новою страною, и, удерживая много от духа прежней родины, много и изменяет в своем характере. Почва Новагорода бедная, болотистая, климат холодный; это обстоятельство, в соединении с соседством немцев, и направило поневоле деятельность новогородцев на торговлю: по невозможности быть земледельцами, они оторвались от общего славянского быта и сделались купцами; соседство же с немцами еще более способствовало развитию их предприимчивости. Но, сделавшись купеческим городом, Новгород отнюдь не сделался{156} муниципальным городом, – и новогородцы, сделавшись купцами, отнюдь не сделались гражданами торговой республики: у них не было цехов, не было определенного разделения классов, которые составляют основание торговых государств, не было ни малейшего понятия о праве личном, общественном, торговом. Там все были купцами случайно и торговали на авось да наудачу, по-азиатски. Дух европеизма всему определял значение, всему указывал место, все силился освободить от случайности и подвести под общие, неизменные и определенные условия необходимости; все подчинял системе, ремесло возвышал до искусства, из искусства делал науку. Ничего этого не было и тени в основах новогородской гражданственности. Внешние обстоятельства были причиною ее возникновения: внешние обстоятельства и докончили ее. Бессилие разъединенной Руси дало Новугороду укрепиться, а соединение Руси в одну державу, без борьбы и особенных усилий{157}, ниспровергло его. И если б Москва допустила существование Новагорода, – он пал бы сам собою и стал бы легкою добычею Польши или Швеции. Что не развивается, то не живет, а что не продолжает жить, то умирает: таков мировой{158} закон всех гражданских обществ. В Новегороде не было зерна жизни, не было развития, а потому, повторяем, из него ничего не могло выйти, и он никогда не был органически-историческим{159} обществом, у которого бы могла быть история, а следовательно, и поэзия.
Но, с другой стороны, нельзя не признать Новагорода весьма примечательным явлением, имевшим важное влияние даже на Московское царство. Торговля родила в Новегороде богатство, а богатство породило дух какого-то самодовольствия, приволья, удальства, отваги, молодечества. Вследствие этого в Новегороде образовался род какой-то странной и оригинальной гражданственности; явилась аристократия богатства, с особенными формами жизни, своим церемониалом, своими общественными нравами и обычаями, своею общественною исемейною нравственностию. Все это, вместе взятое, сделалось типом русского быта. Новгород был богат, силен и славен на Руси, в то время когда Русь была бедна и бессильна, когда в ней не было никакой общественности, никакой гражданственности, когда в ней было не до прохлады, не до роскоши, не до удальства и разгула: ее терзали сперва междоусобия, потом татары. Теперь очень понятно, что Новгород для тогдашней Руси был тем же, чем теперь Париж для Европы. Новгород был городом аристократии, в смысле сословия, которое, много имея денег, много и тратило их на свои прихоти: аристократия без денег нигде и никогда не бывала, и если выскочек называют мещанами в дворянстве, то бедных аристократов должно называть дворянами в мещанстве. Богатство родит множество нужд и прихотей, страсть к удобству и уважение к приличию, и если оно не в состоянии возвысить душу, от природы низкую, то всегда может смягчить внешнюю грубость, дать душе больший простор и полет в сфере житейского и общественного образования, потому что богатство освобождает человека от низких нужд, забот и работ жизни. И потому мы думаем, что русский этикет, свадебные и другие обряды образовались первоначально в Новегороде и оттуда, вместе с венецианскими и немецкими товарами, разлились и распространились по всей Руси. Мы здесь разумеем собственно Северную Русь, бедную и грубую, центром которой был сперва Владимир на Клязьме, а после Москва. Северная Русь резко отделилась от Южной, превратившейся впоследствии в Малороссию; Червонная Русь, более близкая к Киевско-Нерниговской, также не имела ничего общего с Северною. Явно, что тип общественного быта Северной Руси образовался и развился в Новегороде. Лучшим доказательством этому могут служить все поэмы, в которых упоминается о великом князе Владимире и которые мы разбирали в предыдущей статье: в них нет ничего, принадлежащего и свойственного южнорусской поэзии, в них нет ничего общего ни в изобретении, ни в колорите с «Словом о полку Игореве». Напротив, в них все новогородское: и изобретение, и выражение, и тон, и колорит, и замашка, и, наконец, эти герои-богатыри из купцов, как Иван Гостиный сын и другие. «Василий Буслаев» явно новогородская поэма – в этом не может быть ни малейшего сомнения; но сличите эту поэму со всем циклом богатырских сказок времен Владимира, – и увидите, что как та, так и другие как будто сочинены одним и тем же лицом. Это показывает, что они все действительно сложены в Новегороде, – и богатырские сказки о Владимире Красном солнышке были не чем иным, как воспоминанием новогородца о своей прежней родине. Изменившись и выродившись, из земледельца или ратника Южной Руси, став новогородским купчиною, новогородец воскресил смутные предания о первобытной родине по идеалу современного ему быта своей новой и настоящей отчизны. И потому из предания он взял одни имена и некоторые смутные образы, – и Владимир Красно солнышко является у него таким же смутным воспоминанием, как и Дунай сын Иванович, берега которого тоже были некогда его отчизною. Но Дунай и остался в его песнях мифическим воспоминанием; а Владимир великий князь киевский стольный превратился в поэмах новогородца в какого-то купчину, гостя богатого, и по речам, и по манерам, и по складу ума. Оттого же и княгиня Апраксеевна, равно как и все героини киршевых поэм, так похожи на купчих: их иначе и нельзя представить, как в жемчугах, с повязанными головами, разбеленных, нарумяненных, с черными зубами и с чарами зелена вина в руках; они по двору идут – будто уточки плывут, а по горенке идут – частенько ступают, а на лавицу садятся – коленцо жмут, – а и ручки беленьки, пальчики тоненьки, дюжина из перстов не вышли все…
Но не по одному этому влиянию на Русь замечателен Новгород: он и сам по себе есть интересное явление с своим меньшим братом, Псковом. Это какой-то неразвившийся, но большой зародыш чего-то, какая-то неудавшаяся, но размашистая попытка на что-то. По преобладанию восточного элемента, все славянские народы являли собою одни зачатки жизни, которым не суждено было развиться во что-нибудь действительное и определенное из самих себя, собственною самодеятельностию, не приняв в себя общечеловеческих элементов европейского духа. Повторяем: Новгород был не республикою, как думают некоторые из наших так называемых историков, а скорее карикатурою на республику. Ничем нельзя так хорошо охарактеризовать Новагорода, как его же собственным прозванием, простодушным и бессознательным, но метким и верным: новогородская вольница. Где нет права и закона, нет развившихся из жизни государственных постановлений, там пет и свободы, нет граждан, а есть вольность и вольница, которые, в отношении к личной безопасности и независимости индивидуумов, ничем не лучше азиатского деспотизма, если еще не хуже: известно, что вече великого господина Новгорода часто оканчивалось кровавым самоуправством невежественной черни, а спокойствие города нередко нарушалось самыми бессмысленными мятежами. В Новгороде не было представительности: толпа невежественная и дикая безусловно владычествовала на вече. Но Новгород был богат и знал это; новогородцы были полны отваги и удали и говорили: «Кто против бога и великого Новагорода!» Святая София была его покровительницею, и в ее храме хранилась грамота Ярослава. Новогородцы по-своему любили Новгород и гордились им. Вечевой колокол – символ их политического значения, был для них дорог, и, рыдая, провожали они его в Москву… Новгород не был государством, но в нем были зачатки государственной жизни, – и потому он был явлением неопределенным, странным чем-то и в то же время ничем; это был инфузорий государственной жизни, но не государство. Проблескивало в его жизни что-то и размашистое и грандиозное, но только проблескивало и, мгновенно поразив зрение, тотчас же исчезало, подобно миражам и блуждающим огням…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "<Статьи о народной поэзии>"
Книги похожие на "<Статьи о народной поэзии>" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виссарион Белинский - <Статьи о народной поэзии>"
Отзывы читателей о книге "<Статьи о народной поэзии>", комментарии и мнения людей о произведении.