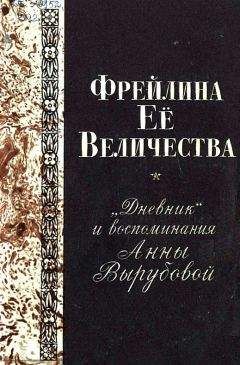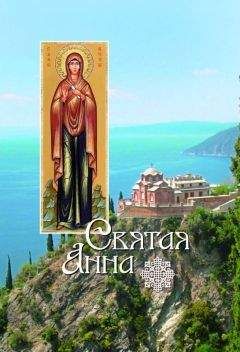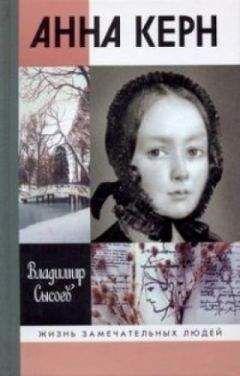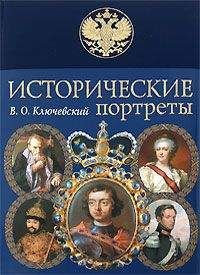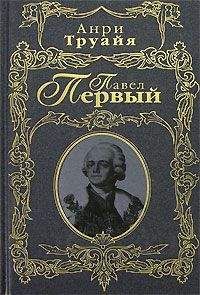Игорь Курукин - Анна Иоанновна

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Анна Иоанновна"
Описание и краткое содержание "Анна Иоанновна" читать бесплатно онлайн.
В судьбе Анны Иоанновны было немало крутых поворотов: природную русскую царевну, племянницу Петра I, по его воле выдали замуж за иноземного принца, полжизни провела она бедной вдовствующей герцогиней в европейском захолустье, стала российской императрицей по приглашению вельмож, пытавшихся сделать её номинальной фигурой на троне, но вскоре сумела восстановить самодержавие. Анна не была великим полководцем, прозорливым законодателем или смелым реформатором, но по мере сил способствовала укреплению величия созданной Петром империи, раздвинула её границы и сформировала надёжную и работоспособную структуру управления. При необразованной государыне был основан кадетский корпус, открыто балетное училище и началось создание русского литературного языка.
Книга доктора исторических наук Игоря Курукина, написанная на основе документов, рассказывает о правлении единственной русской императрицы, по иронии судьбы традиционно называемом эпохой иностранного засилья.
По подсчётам за девять лет царствования (1732–1740), солдаты составили в среднем 26 процентов арестантов в год; если же учесть, что из 10,5 процента подследственных-дворян (в иные годы их количество доходило до 15 процентов) многие были офицерами, то военные составляли около трети всех «клиентов» Тайной канцелярии. Вряд ли служивые были больше других российских подданных склонны к политическому протесту — просто в казарменно-походных условиях было труднее скрыть «непристойные» толки и поступки, да и начальство в полку стояло куда ближе к «народу», чем в провинциальной глуши.
Крестьяне (более 90 процентов населения страны) среди «колодников» составляли всего 13,1 процента — немногим больше, чем чиновники (9,9 процента) и работные (6,9 процента). Ведь мужики попадали под следствие большей частью вследствие доноса тех соседей, кто имел возможность (и желание) доехать до провинциального воеводы. Заводские люди, живя скученно в городах или фабричных посёлках, становились более склонными к всевозможным «продерзостям», особенно после посещения кабака. А «крапивного семени» — подьячих — во всей аннинской России едва ли набиралось больше шести-семи тысяч человек, но они, как и армейцы, были на виду и под контролем, а потому и сами доносили, и служили объектом чужих доносов.
Довольно большое количество — 6,1 процента клиентов тайного сыска — составляли «колодники», пытавшиеся путём объявления «слова и дела» достучаться до властей, добиться истины, смягчить своё наказание или отомстить недоброжелателям. Все остальные слои населения давали гораздо меньше подследственных: купцы (2,8 процента), посадские (4,5 процента), духовенство (2,4 процента), что примерно соответствует удельному весу этих групп в структуре российского общества того времени. Остальные дела касались неустановленных «прочих», большую часть которых составляли люди без роду-племени, городские «жёнки», бродяги, нищие, отставные солдаты, беглые рекруты, скитавшиеся «меж двор» и кормившиеся «чёрной работой»{244}.
Поначалу заключённые Тайной канцелярии содержались за свой счёт — деньги на питание, одежду и другие нужды им передавали родственники, а в случае их отсутствия столичных колодников под караулом выводили скованными в город просить подаяния. При Анне Иоанновне режим содержания в Петропавловской крепости стал несколько мягче — по крайней мере с голоду не умирали. Среди охранников попадались люди добрые, исполнявшие — правда, не всегда бескорыстно — просьбы заключённых. Священники Петропавловского собора исповедовали и причащали узников, а при необходимости приглашались попы из других городских церквей. Больных осматривал немец-лекарь и прописывал лекарства, вроде «теплова лехкова пива с деревянным маслом». Заключённым разрешалось держать при себе ножи и вилки; им могли даже «бритца позволить» самостоятельно{245}.
Малочисленный штат Тайной канцелярии был занят преимущественно бумажной работой — составлением и перепиской протоколов допросов и докладов. Доставку подозреваемых осуществляли местные военные и гражданские власти. Но и они выявлением преступников не занимались. Настоящей основой кажущегося всесилия Тайной канцелярии являлось освящаемое царским именем доносительство. На заре создания современных европейских государств донос был призван выполнять важную социальную роль — разрушать средневековые корпоративные связи и замкнутость сословных групп, над которыми возвышалась власть.
Была у доноса и другая, не менее важная функция: сочетая в себе заботу об общественном благе и личную корысть, он открывал для любого, даже самого «подлого» (с точки зрения социального положения, а не нравственности) подданного возможность сотрудничать с государством. Для власти же донос становился средством получения информации о реальном положении вещей в центральных учреждениях или провинции, а для подданных — часто единственным доступным способом восстановить справедливость, свести счёты со знатным и влиятельным обидчиком. Можно представить, с каким чувством «глубокого удовлетворения» безвестный подьячий, солдат или посадский сочинял бумагу (или по неграмотности устно объявлял в «присутствии» «слово и дело»), в результате чего грозный воевода или штаб-офицер мог угодить под следствие.
«По самой своей чистой совести, и по присяжной должности, и по всеусердной душевной жалости… дабы впредь то Россия знала и неутешные слёзы изливала» — так в 1734 году был воодушевлён своей патриотической миссией бывший подьячий Монастырского приказа Павел Окуньков, донося на соседа-дьякона, который «живёт неистово» и «служить ленитца»{246}. В поисках правды таким «ходокам» приходилось нелегко. В 1740 году дьячок из села Орехов Погост Владимирского уезда Алексей Афанасьев безуспешно пытался жаловаться в местное духовное правление на попов, ради хорошей отчётности преувеличивавших число ходивших к исповеди прихожан, — там его слушать не хотели. Он отправился в Синод, где для солидности объявил, что на доношение его подвигло видение «Пресвятой Богородицы, святителя Николая и преподобного отца Сергия», известивших, что страну ждут «глад и мор велик». Члены Синода не поверили, но дьячок пригрозил: «Я де пойду и к самой её императорскому величеству», — и в итоге попал-таки в Тайную канцелярию. Там Афанасьев обличил своего попа-начальника: «…сидит корчемное вино» в ближнем лесу. Следствие не обнаружило искомый самогонный аппарат, но доноситель стоял на своём, вытерпел полагавшиеся пытки и был сослан в Сибирь{247}.
В неграмотной стране письменные доносы в основном подавали мелкие чиновники и горожане. По части живописности подобных обращений редко кто мог соперничать с представителями духовного сословия — видимо, замкнутое пространство церковного или монастырского обихода способствовало экспрессивности выражений и яркости проявления не самых лучших чувств. Не случайно в 1733 году правительство обратило внимание: представители духовенства, вместо того чтобы «упражняться в благочинии», безмерно упиваются, «чинят ссоры и драки» и часто объявляют друг на друга «слово и дело»{248}.
Доносы солдат на офицеров можно объяснить протестом против муштры и дисциплины, но служивые столь же исправно доносили и на своего брата рядового. Можно полагать, что это было вызвано не только верностью присяге и знанием законов, но и честолюбием — ведь именно в армии или гвардии вчерашний мужик мог реально стать если не обер-офицером, то хотя бы «господином подпрапорщиком». Донос подрывал полковое братство, но давал возможность командирам знать настроения в полку и не позволять существовать круговой поруке нижних чинов роты или батальона.
Отличиться в государственном радении спешили и молодые, и старые. Почтенный коллежский асессор Коммерц-коллегии Игнатий Рудаковский не поленился обвинить в оскорблении величества простого адмиралтейского столяра, заявившего, что будет жаловаться на обиды самой «Анне Ивановне», не указав надлежащего титула. Тринадцатилетний ученик Академии наук Савка Никитин донёс на караульного солдата, укравшего стаканы из адмиралтейского «гофшпиталя», — какое-никакое, а всё же государственное имущество{249}.
Порой жажда мести или славы заставляла доносчиков идти на поступки, в буквальном смысле дурно пахнущие. Октябрьским утром 1732 года на дворе Максаковского Преображенского монастыря объявился иеродьякон Самуил Ломиковский. «Вышед из нужника», учёный монах держал в руках две «картой, помаранные гноем человеческим, на которых написано было рукою его, Ломиковского, сугубая эктения, по которой де воспоминается титул её императорского величества и её величества фамилии, а признавает он, Ломиковский, что теми картками в нужнике подтирался помянутой иеромонах Лаврентий». Можно себе представить, каких усилий стоило узреть злополучные «картки» в выгребной яме и вытащить их оттуда. После проделанной операции торжествующий иеродьякон продемонстрировал инокам пахучие доказательства преступления.
Иеродьякон решил сжить врага любой ценой. «Я де знаю, как донесу; то де мне кнут, а тебе голова долой!» — кричал он. Но угрозы не сбылись — Петров наглухо «заперся», а доказать его вину в осквернении выисканных в сортире «карток» Ломиковский не смог, ибо его оппонент не был уличён непосредственно в процессе их преступного употребления. Для доносчика вендетта закончилась лишением сана, поркой кнутом и ссылкой «в Сибирь на серебреные заводы в работу вечно». От непримиримой вражды осталось только дело «о подтирке зада указом с титулом её императорского величества» с пресловутыми вещественными доказательствами{250}.
А подьяческой жене, «чухонке» из Петербурга Дарье Михайловой настолько запал в душу образ великого дяди государыни, что она рассказывала квартирным постояльцам: «Такой видела я сон… кабы де я с первым императором гребусь». Бабёнка не скрывала незабываемых ощущений от виртуального контакта — скорее наоборот; но от серьёзного наказания её спасла беременность — явно не от императора, поскольку дело «следовалось» в 1733 году. Ушаков принял гуманное решение: дабы «не учинилось имеющемуся во утробе её младенцу повреждения», наказать впечатлительную даму плетьми позже; с её мужа была взята расписка с обязательством «представить» супругу для порки в Тайную канцелярию после рождения ребёнка{251}.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Анна Иоанновна"
Книги похожие на "Анна Иоанновна" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Курукин - Анна Иоанновна"
Отзывы читателей о книге "Анна Иоанновна", комментарии и мнения людей о произведении.