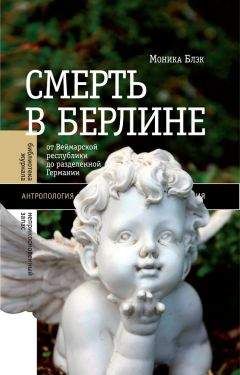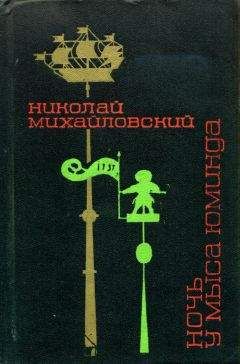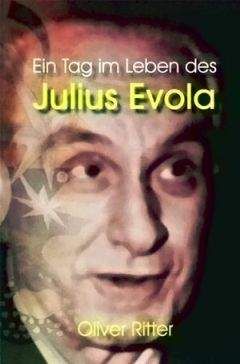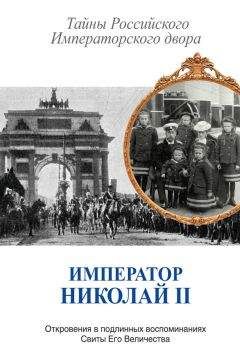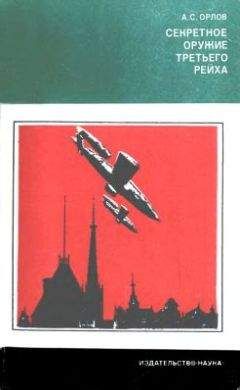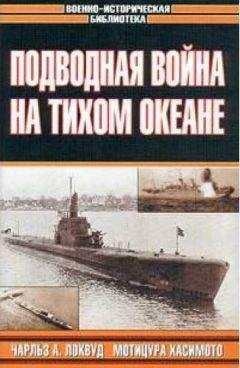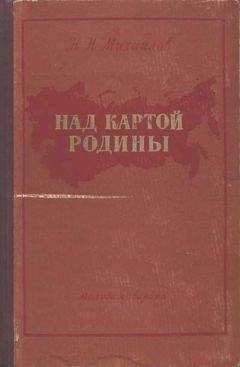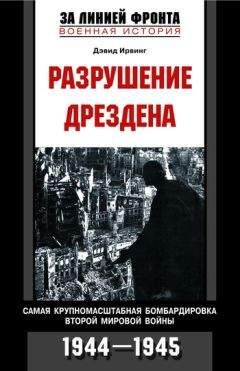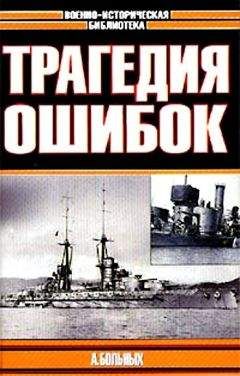Борис Колоницкий - «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "«Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны"
Описание и краткое содержание "«Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны" читать бесплатно онлайн.
Верноподданным российского императора следовало не только почитать своего государя, но и любить его. Император и члены его семьи должны были своими действиями пробуждать народную любовь. Этому служили тщательно продуманные ритуалы царских поездок и церемоний награждения, официальные речи и неформальные встречи, широко распространявшиеся портреты и патриотические стихи. В годы Первой мировой войны пробуждение народной любви стало важнейшим элементом монархически-патриотической мобилизации российского общества. Б. И. Колоницкий изучает, как пытались повысить свою популярность члены императорской семьи – Николай II, императрица Александра Федоровна, верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Автор исследует и восприятие образов Романовых. Среди многочисленных источников, на основе которых написана книга, – петиции, дневники и письма современников, материалы уголовных дел против людей, обвиненных в заочном оскорблении членов царской семьи.
Поражения весны и лета 1915 года полностью уничтожали пропагандистское значение триумфального посещения императором Галиции. Более того, память об этом визите негативно сказывалась на авторитете монарха.
Императрица Александра Федоровна сочла нужным напомнить императору, что Распутин предостерегал его от поездки в Галицию: «Он знает, что говорит, когда говорит так серьезно. Он был против твоей поездки во Л[ьвов] и П[еремышль], и теперь мы видим, что она была преждевременна»271.
В этой ситуации царь отказался от посещения войсковых соединений и губернских центров. С одной стороны, у императора в этой усложняющейся ситуации просто не было времени совершать свои поездки, требовавшие большой подготовки. С другой стороны, сам сложившийся ритуал поездки представлял собой церемониал празднования, ритуал встречи ликующего народа и победоносных войск со своим державным вождем. В обстановке поражений такие торжества были явно неуместными, они вызвали бы негативный пропагандистский эффект.
3. «Венценосный главнокомандующий»:
Образы царя-полководца
19 июля 1915 года исполнилась годовщина вступления России в войну. Накануне, 18 июля в присутствии царя с верфи Адмиралтейского завода был спущен новый современный линейный крейсер «Бородино». В день же годовщины царь отдал особый приказ по армии и флоту.
Илл. 10. Император Николай II и наследник цесаревич Алексей Николаевич.
Снимок, сделанный царицей Александрой Федоровной (1916)
В тот же день открылась чрезвычайная сессия Государственной думы и состоялось заседание Государственного совета. В формуле перехода Государственного совета к очередным делам «единение Монарха с Богом и вверенным им народом» рассматривалось как первое условие, необходимое для обеспечения победы272. В то же время в формуле перехода, принятой Думой, тема единения монарха и народа не звучала. За прошедший год официальная риторика представительного органа власти претерпела существенные изменения. Надо полагать, что это не могло не беспокоить царя и его окружение.
Страна встречала годовщину объявления войны с тяжелым чувством. Еще в апреле началось мощное наступление армий противника, 20 мая российские войска оставили Перемышль, крепость, с трудом завоеванную совсем недавно, затем враг занял и Львов, столицу Галиции. Вскоре последовали новые удары, 22 июля русские войска оставили Варшаву. В августе были потеряны крепости Новогеоргиевск, Ковно, Осовец, Брест-Литовск.
Илл. 11. Император Николай II, наследник цесаревич Алексей Николаевич, великая княжна Татьяна Николаевна и князь Никита Александрович.
Снимок, сделанный царицей Александрой Федоровной (1916)
Уже в июле в Петрограде заговорили об опасности, которой вследствие наступления врага подвергается и столица империи, это нашло отражение в новых слухах, преувеличивавших тяжесть и без того не простой ситуации: «Сегодня все говорят о возможности подхода немцев к Петрограду! Благодарю покорно!» – записал 29 июля в своем дневнике граф И.И. Толстой. 11 августа он вновь вернулся к этой теме: «В городе – только и разговору о предстоящей эвакуации Петрограда, куда все ждут немцев чуть ли не на днях»273.
Показательно, что даже в официальном издании Министерства императорского двора вновь упоминаются слухи той поры, они явно становились важным политическим фактором:
Тревожные слухи росли и ширились, проникая во все слои русского общества и принимая по временам самые причудливые, невероятные формы. Трусливые, малодушные голоса сначала шепотом, вполголоса, а затем открыто и настойчиво стали говорить о близкой опасности для обеих наших столиц – Москвы и Петрограда. Каждый день приносил с собою массу новых слухов, подчас совершенно невероятных и легкомысленных, но, тем не менее, вполне достаточных для того, чтобы поддерживать в населении чувство особенной нервности и беспокойства274.
Но слухи, представлявшиеся впоследствии столь невероятными, имели под собой в то время и некоторые серьезные основания: на заседании Совета министров серьезно обсуждались практические меры по эвакуации Риги, Киева и даже столицы империи.
Обострилось и внутриполитическое положение. Майский антинемецкий погром в Москве и Московской губернии продемонстрировал, что движение, использующее патриотические лозунги, монархическую и национальную символику, может представлять немалую опасность для режима.
На этом фоне усилилось недовольство верховной властью, немало жителей империи полагало, что главная ответственность за поражение войск и за нарастание внутриполитического кризиса в стране лежит не только на генералах и министрах, но и на самом императоре.
Некто С. Ястребцов сообщал 7 августа в частном письме о настроениях, царящих в госпитале, который был размещен в здании Московской духовной семинарии: «Вообще, настроение среди раненых далеко не столь бодрое, как было прежде; явно чувствуется какая-то утомленность и слышится недовольство государственными порядками и действиями Верховной власти». Житель Казани писал 17 августа члену Государственной думы октябристу Д.С. Теренину: «Отношение к ЦАРЮ критическое, чтобы не сказать больше»275.
Возмущение тяжелыми и неожиданными для общественного мнения военными поражениями 1915 года проявлялось и в особенностях оскорбления царя в этот период. Ответственность за неудачи на фронте все чаще возлагалась не только на отдельных генералов, на военного министра или на Ставку Верховного главнокомандующего, но и лично на императора. Так, 58-летний крестьянин Харьковской губернии заявил после падения Перемышля: «Министры немцы только водкой торговали, а к войне не готовились. Царь 20 лет процарствовал и за это время напустил полную Россию немцев, которые и управляют нами»276. А 62-летний чернорабочий, из крестьян Пермской губернии, так отозвался на весть об оставлении русскими войсками Варшавы: «… (площадная брань) Нашего ГОСУДАРЯ, он пропил ее (Варшаву), а на его место лучше бы поставить Канку Безносова (известный на заводе пьяница, который чистил отхожие места. – Б.К.), так как он управил бы лучше»277.
Такие настроения, в которых патриотическая тревога переплеталась с критикой царя, проявлялись в это время не только в крестьянской среде. 43-летний донской казак был не менее резок в осуждении императора: «Нашего ГОСУДАРЯ нужно расстрелять за то, что он не заготовил снарядов. В то время, как наши противники готовили снаряды, наш ГОСУДАРЬ гонялся за сусликами»278.
Но не только городские простолюдины и необразованные деревенские жители теряли веру в императора под влиянием военных поражений. О том же говорили и некоторые офицеры. И в вооруженных силах распространялись тревожные для Николая II настроения. И.И. Толстой записал в своем дневнике 12 августа: «Вернувшийся с фронта Фальборк говорит, что в армии господствует недовольство государем, его обвиняют в неумении управлять страной…»279
Сложно сказать, насколько распространены были подобные взгляды. Можно лишь сослаться на оценку министра внутренних дел кн. Н.Б. Щербатова, который по своей должности обязан был знать о состоянии общественного мнения; на заседании Совета министров 6 августа он заявил: «В своих докладах я неоднократно обращал внимание Его Величества на рост революционных настроений и предъявлял полученные через военную цензуру письма людей из разных классов общества, до самых близких к дворцовым сферам. В этих письмах ярко видно недовольство правительством, порядками, тыловою разрухою, военными неудачами и т.д., причем во многом винят самого Государя». Показательно, что главы других ведомств, имевшие свои источники информации, не сочли нужным опровергать мнение Щербатова280.
И дела по оскорблению членов императорской семьи, позволяющие ощутить настроения «низов», прежде всего крестьян, и цензура почтовой переписки, регистрирующая настроения образованного общества, фиксировали появление схожих формул, хотя они и выражались с помощью различного языка.
По сравнению с 1914 годом образ царя играл гораздо меньшую роль в патриотической мобилизации русского общества. Показательно, что различные иллюстрированные издания предложили своим читателям разные образы, символизировавшие годовщину начала войны. Если год назад все ведущие журналы опубликовали портреты императора, то в июле 1915-го их позиция не была уже столь единодушной. Символическая репрезентация годовщины стала в этих условиях проявлением конкуренции различных концепций русского патриотизма военной поры.
Официальная «Летопись войны», разумеется, поместила царский портрет военного времени, который, очевидно, предпочитал сам император: царь в полевой форме, в гимнастерке281.
Открывшаяся в Петрограде к годовщине войны передвижная выставка «Наши трофеи», которая должна была стимулировать процесс патриотической мобилизации, была украшена традиционным портретом царя в горностаевой мантии282.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны"
Книги похожие на "«Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Колоницкий - «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны"
Отзывы читателей о книге "«Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны", комментарии и мнения людей о произведении.