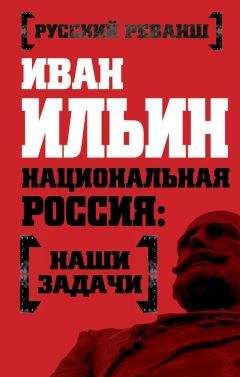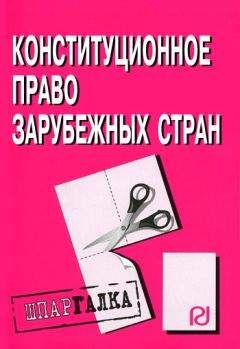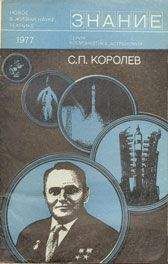Михаил Безродный - Россия и Запад

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Россия и Запад"
Описание и краткое содержание "Россия и Запад" читать бесплатно онлайн.
Сборник, посвященный 70-летию одного из виднейших отечественных литературоведов Константина Марковича Азадовского, включает работы сорока авторов из разных стран. Исследователь известен прежде всего трудами о взаимоотношениях русской культуры с другими культурами (в первую очередь германской), и многие статьи в этом сборнике также посвящены сходной проблематике. Вместе с тем сюда вошли и архивные публикации, и теоретические работы, и статьи об общественной деятельности ученого. Завершается книга библиографией трудов К. М. Азадовского.
Diese Urszene der Menschheitsgeschichte erscheint ihm symboltrachtig auch für die Zukunft:
Будет то время, когда станет братским объятьем сплетение рук араратских, откуда — восход в поднебесные выси, куда ушел конус, коли он… не рухнет до этого; он — разрушается; землетрясение сороковых годов прошлого века свалило под глетчером бок великана на церковь Иакова и на поселок, — в места, куда Ной, опустившися, стал разводить виноградники послепотопные[267].
Belyjs Armenienbericht wurde 1928 im Heft 8 der Zeitschrift «Krasnaja Nov’» veröffentlicht, dann erst wieder vollständig im Jahre 1985 in Erevan[268].
Osip Mandel’štam: «Putešestvie v Armeniju»Mandel’štams Beschäftigung mit Armenien ist uns vor allem in drei Textsorten überliefert: im Gedichtzyklus «Armenija» (1930), dem Notizbuch zur Armenien-Reise «Zapisnye knižki 1931–1932» sowie dem eigentlichen Reisetext «Putešestvie v Armeniju» (1931/1933)[269]. Mandel’štam besuchte Armenien vom Mai bis November 1930. Seit 1928, als eine Verleumdungs — und Hetzkampagne gegen den Dichter entfesselt worden war, träumte er von dieser Reise, die ihm schließlich durch Fürsprache Nikolaj Bucharins genehmigt wurde.
Ähnlich wie bei Belyj ist die Reise als Flucht aus der bedrückenden Moskauer Atmosphäre zu verstehen, was sich in den Armenien-Texten widerspiegeln und deren Erzählperspektive bestimmen wird.
Aber Armenien war — und darin Belyjs Georgien-lmaginationen verwandt — nicht beliebiger Fluchtort, sondern kultureller Sehnsuchts-ort, der dem symbolistisch-akmeistischen Synthesedenken reichliche Nahrung bot. Beide Dichter verbanden mit ihrer Reise in den Kaukasus zugleich die Suche nach den eigenen poetischen Wurzeln: Während Belyj in Georgien die Kolchis, die mythologische Landschaft seiner symbolistischen Argonauten-Phase zu entdecken glaubte, fand Mandel’štam — in dessen Dichtung ebenfalls georgische Motive zu finden sind[270] — in Armenien zu den Wurzeln seiner jüdischen Kultur, aber eben in ihrer Verquickung mit der klassischen Antike. Der Mandel’štam Übersetzer und — Spezialist Ralph Dutli weist darauf hin, dass Mandel’štam bereits in seiner «Četvertaja proza» von 1929/1930 die armenische Erde als die jüngere Schwester der judäischen bezeichnete[271]. Auch der nach der Reise entstandene Gedichtzyklus bezeugt, dass Armenien seine poetische Phantasie beschäftigt hat.
Der Europäer Mandel’štam, der im mittelmeerischen Raum das Zentrum der europäischen Kultur sieht, betrachtet immer auch die zahlreichen Fäden und Verästelungen mit der «Weltkultur», aus der die europäische Kultur ihre besondere Qualität gewinnt.
Laut Nadežda Mandel’štam schloss er die Krim und den Kaukasus, insbesondere Armenien, durch ihre Verbindung mit dem Schwarzen Meer in diesen europäischen Kulturraum ein:
Средиземноморье было для него священной землёй, где началась история, которая путём преемственности дала христианскую культуру Европы. (…) В сферу Средиземноморья он включал Крым и Закавказье. (…) Древние связи Крыма и Закавказья, особенно Армении, с Грецией и Римом казались ему залогом общности с мировой, вернее, европейской культурой. (…)[272]
So wird ihm die Erde Armeniens, mit dem Berg Ararat, der bereits im ersten Buch Mose 8.4 als biblisches Land genannt wird, zum «Lehrbuch derersten Menschen», wie es in einem Gedicht des Zyklus heißt. Mandel’štam verortet Armenien in seiner geokulturellen Landkarte «на окрайне света» (4. Gedicht), wo es seinen Platz als «östlicher Vorposten jüdisch-christlicher, europäisch-abendländischer Kultur»[273] behauptet.
Der heilige Berg Ararat faszinierte auch andere russische reisende Literaten. In der symbolischen Ausdeutung des Ararat bei den Dichtem der Moderne findet man Puškins Staunen über den biblischen Berg wieder («Putešestvie v Azrum»), zugleich aber weiterführende kulturelle Reminiszenzen: Brjusov besingt den «старый Арарат» als Monument der Freiheit: «В огромной шапке Мономаха, / Как властелин окрестных гор, / Ты внёсся от земного праха / В свободный голубой простор»[274]. Belyj sah in ihm den Patriarchen, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft steingeworden seien[275]. Mandel’štam versieht den Ararat mit verschiedenen metaphorischen Bestimmungen, so z. В.: «Весь воздух выпила огромная гора»[276], «дорожный шатёр»[277].
Es ist schwer, in Mandel’štams Armeniengedichten ein geschlossenes Bild des Landes und seiner Kultur auszumachen. Zu den wichtigen Versatzstücken, die das poetische Gebäude namens Armenien errichten, gehören Motive der armenischen Volkspoesie, wie die Rose, die allerdings ihres traditionellen Partners der Nachtigall beraubt ist: «Ты розу Гафиса колышешь»[278] beginnt der Gedichtzyklus und verweist damit auf den starken Einfluss der persischen Tradition auf das Armenische. Zugleich wird das Eigenständige und Widerständige der armenischen Poesie betont:
Закутав рот, как влажную розу, / Держа в руках осьмигранные соты, / Всё утро дней на окрайне мира / Ты простояла, глотая слезу. // И отвернулась со стыдом и скорбью / От огородов богатых востока; / И вот лежишь на москательном ложе / И с тебя снимают посмертную маску[279].
Doch statt der romantischen Liebesbande zwischen der Rose und der Nachtigall, die die Volkspoesie durchzieht, lesen wir im VIII. Gedicht: «Холодно розе в снегу: / На Севане снег в три аршина…»[280] Die zarte Rose muss sich nunmehr in eisigen Gefilden behaupten. Im ständigen Kampf der Mächte wurde Armenien zerrieben. Es ist ein Land, das standig in höchster Gefahr schwebt.
Ein weiteres wichtiges Mosaik seines Armenien-Bildes bildet die armenische Sprache, besonders das Altarmenische (Grapar), das Mandel’štam (erfolglos, wie er selbst erklärt[281]) zu erlernen versuchte. Die fremde Sprache ist ihm Herausforderung: «Дикая кошка — армянская речь — / Мучит меня и царапает ухо»[282], zugleich symbolisiert sie jene unverfälschte Kultur, die sich eben durch ihre unverfügbare Sprache den politischen Zumutungen der Zeit entzieht.
Die poetische Spannung des gesamten Reisetextes «Putešestvie v Armeniju» resultiert aus der Gegenüberstellung des ungeliebten Moskaus derfinsteren Spießerfamilien («суровые семьи обывателей») mit dem lichten Armenien, «где черепа людей одинаково прекрасны»[283]. Nur drei von acht Kapiteln haben Armenien zum Schauplatz[284]. Der Akmeist verteidigt sein Konzept der kulturellen Autonomie und einer lebendigen häusliche Kultur, in das das transkauskasische Armenien genauso gehört wie das weltläufige, europäische Petersburg — nicht aber das «buddhahafte Moskau»[285].
Die überraschende und übergangslose Hinwendung zur französischen Malerei in Moskau (Kapitel «Francuzy») in einem Text über seine Armenien-Reise erklärt sich aus einer Vorstellung, die die europäische Kultur als ein geistiges Kontinuum denkt und nicht als einen abgeschlos-senen Raum. Im «buddhahaften Moskau» sucht er die Spuren, die von europäischer Kultur zeugen und verbindet sie kraft seiner poetischen Assoziation zu jenem Gewebe, dessen Struktur nicht so leicht zu durchschauen ist. Die Fäden reichen von den französischen Impressionisten über den Biologen Boris S. Kuzin, den er in Armenien und später in Moskau trifft und der ihm nicht nur die Lehren Lamarcks und Linnés nahe bringt[286], sondern auch die deutsche Literatur. Kuzin ist das Gedicht «К nemeckoj reči» (1932) gewidmet. Die vielfältigen kulturellen Assoziationen und Überschneidungen, die den Armenien-Text durchziehen, bedürfen einer differenzierten Erforschung[287], an dieser Stelle kann lediglich auf das Verfahren der omamentalen Verflechtungen hingewiesen werden, mit dem der Dichter die unterschiedlichen geographischen Räume überzieht, wodurch sich über die augenscheinlich unterschiedlichen nationalen Physiognomien ein einheitliches geistig-kulturelles Gewebe legt, das die europäische Kultur für ihn darstellt. Insofern vermag er auch dem «buddhahaften Moskau» seine europäischen Seiten abzutrotzen.
Mandel’štam — wie auch seine Dichterkollegen Bijusov und Belyj — interessieren nicht die Grenzziehungen und Exklusionen, sondern die Verbindungslinien zwischen Kulturen und Zeiten — wobei das Zentrum ihres Denkens stets die europaische Kultur bleibt.
____________________ Christa EbertМежъязыковые каламбуры
В моем петербургско-тартуском филологическом окружении в письмах и разговорах довольно часто использовались шуточные «переводы» с одного языка на другой. Так, видный немецкий славист Герхард Цигенгайст (во времена ГДР он занимал крупные научно-административные посты) в нашем быту прочно именовался «Козлиный дух» (а иногда и «Цыганский дух»). Первое — это буквальный перевод с немецкого Ziegengeist, а второе — легкий каламбур: цыган по звучанию (der Ziegener) близок к козе (die Ziege). Следует учесть, что некоторая каламбурность содержится внутри самой немецкой фамилии Цигенгайст: Geist это дух в философском, возвышенном значении, а материальный запах, что куда естественнее прилагать к козе, по-немецки — der Geruch.
Возможны смешанные межъязыковые каламбуры, особенно действенные благодаря частичному «переводу». Была известна дружеская шутка Н. Я. Берковского, назвавшего выдающегося питерского филолога и искусствоведа А. А. Гозенпуда за его энциклопедические познания и отменную работоспособность — «пуд штанов» (штаны по-немецки — die Hosen).
Редки, но тем более эффектны каламбуры, придуманные целиком на материале «чужого» языка. Ю. М. Лотман в письме к Б. А. Успенскому от 26 августа 1980 года ворчит на адресата, что безуспешно звонил ему, и излагает неудачу французскими фразами, грубо записанными кириллицей: «Жё сонь — персонь, жё ресонь — реперсонь» (латиницей было бы: «Je sonne — personne, je resonne — repersonne», т. е. «Я звоню — никого, снова звоню — опять никого»), Реперсонь (repersonne) — слово, придуманное самим автором письма[288].
Такие каламбуры очень характерны для Ю. М. Лотмана; см. в другом письме к Б. А. Успенскому (от 8 ноября 1974 года) сообщение, что в английском University of Keele прошла интересная Neoformalist conference, т. е. конференция о нео-формализме, и там был informal talk, т. е. неформальные разговоры[289].
Серьезная и сложная тема — перевод каламбуров на другой язык. Ясно, переводчик должен быть блистательным знатоком обоих языков. Чрезвычайно интересный пример такого рода — каламбуры Н. С. Лескова. Казалось бы, знаменитую повесть о Левше («Левша. Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе», 1881), наполненную изумительными каламбурами, невозможно перевести ни на какой язык (разве что на близкие украинский и белорусский). Но нашелся отличный переводчик на английский язык — известный специалист по творчеству Лескова, американский профессор Вильям Эджертон, издавший немало произведений русского писателя. Для данной статьи я пользовался сборником «Satirical Stories of Nikolai Leskov. Translated and Edited by William Edgerton» (New York: Pegasus, 1969). «Левшу» переводчик назвал «The Steel Flea», т. е. «Стальная блоха» (см. с. 25–53 этой книги), а текст сказа предварил небольшим предисловием, где прежде всего подчеркнута трудность перевода лесковских каламбуров. Любопытно, что в англо-американском стилеведении употребляется не французский термин каламбур, а собственный — малапропизм, произведенный от имени миссис Малапроп (Malaprop), героини пьесы Ричарда Шеридана (1751–1816) «Соперники» («The Rivals», 1775); впрочем, фамилия героини сочинена из французских слов таl à propos (т. е. плохо подходяще — как бы ироническое обозначение каламбура).
В. Эджертон нашел аналогичные лесковским английские каламбуры (малапропизмы) в подавляющем большинстве случаев.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Россия и Запад"
Книги похожие на "Россия и Запад" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Безродный - Россия и Запад"
Отзывы читателей о книге "Россия и Запад", комментарии и мнения людей о произведении.