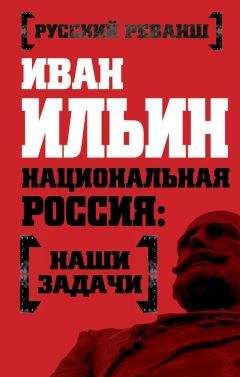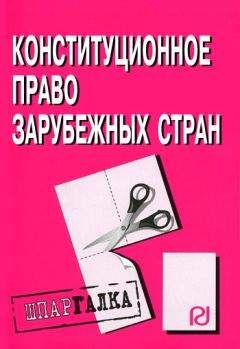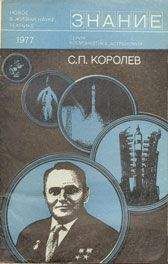Михаил Безродный - Россия и Запад

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Россия и Запад"
Описание и краткое содержание "Россия и Запад" читать бесплатно онлайн.
Сборник, посвященный 70-летию одного из виднейших отечественных литературоведов Константина Марковича Азадовского, включает работы сорока авторов из разных стран. Исследователь известен прежде всего трудами о взаимоотношениях русской культуры с другими культурами (в первую очередь германской), и многие статьи в этом сборнике также посвящены сходной проблематике. Вместе с тем сюда вошли и архивные публикации, и теоретические работы, и статьи об общественной деятельности ученого. Завершается книга библиографией трудов К. М. Азадовского.
Именно с целью доказать, каким «провинциальным» анахронизмом является такое истолкование Пастернака, поэта буквально через несколько дней ввели в писательскую бригаду, впервые разрешив ему поездку в армию[1338]. Эксперимент не удался, в типового «фронтового корреспондента» Пастернак не превратился, и то, что он написал в связи с поездкой, начальство устроить не могло. К опровержению той же статьи Шиманского Фадеев обратился вновь спустя три года, когда Пастернака решили сделать одной из мишеней нападок в рамках кампании, поднятой Постановлением ЦК от 14 августа[1339]. Обрушившись в своем установочном выступлении на ту статью Шиманского, Фадеев ни разу не упомянул, однако, что главный герой в ней — Пастернак и что именно это и вызвало ярость советских инстанций. С другой стороны, приведя внушительный список советских писателей и поэтов, облеченных доверием и признанием партии и государства, Фадеев имя Пастернака в него тоже включать не стал, притом что там были даже проштрафившиеся за три года до того Асеев, Федин и Сельвинский[1340]. Такое «двойное» умолчание служило, разумеется, прозрачным намеком, формой «нажима» на поэта. Атак как намек, очевидно, не был адекватно понят и нажим не дал ожидаемого результата, Фадеев в очередном своем выступлении предпринял атаку на Пастернака «открытым текстом», процитировав еретические высказывания Шиманского о нем как дискредитирующую улику, как доказательство падения, до которого дошли и иностранный критик, и объект его похвал. Предостерегающий вывод Фадеева гласил:
Как видите, Б. Пастернаку кажется, что он стоит вне политики. А там, где за морями протягивают ему руку и приглашают за свой стол, потому что видят, что эта позиция и вся эта литературная концепция в какой-то мере отвечает тому идейному и художественному вырождению, которое присуще сейчас значительной части английской буржуазной поэзии и которое хотят направить против нас[1341].
Апогеем в ряду антипастернаковских выступлений в советской прессе того периода стала, как известно, статья о нем в газете Агитпропа «Культура и жизнь». Ее появление отметили за рубежом как очередное проявление тенденции СССР к полному разрыву с Западом, к изоляционизму[1342]. Но мемуарист рассказывает о неожиданно мягком впечатлении, произведенном ею:
И вот наконец ожидавшаяся проработочная статья появилась. Это было 22 марта 1947 года. Я тоже с нетерпением ждал ее, но, прочитав, вздохнул облегченно: при всей недобросовестности и умышленной тупости в ней не было окончательного «отлучения». Стало ясно, что на этот раз вопрос об исключении Пастернака из ССП не будет поставлен[1343].
Предупреждая ожидания, что его заставят апеллировать к верхам, Пастернак поспешил успокоить О. М. Фрейденберг в письме от 9 апреля:
Никому не писал, ни с кем не объяснялся. Кажется, дышу, насколько могу судить. <…> Но вообще ничего, нельзя жаловаться. А подспудная судьба — неслыханная, волшебная[1344].
Последнюю фразу публикаторы справедливо интерпретируют как намек на недавно дошедшее до Пастернака известие о выдвижении его кандидатуры на Нобелевскую премию. Отказавшись от каких бы то ни было обращений в правительственные инстанции («никому не писал»), Пастернак допускал, что рост за рубежом репутации его как «первого поэта современной России» — репутации, находившейся в разительном контрасте с вычеркиванием его имени «у себя дома» в бюрократических обзорах текущей литературы, — вынудит литературные власти к сдержанности в продолжающейся кампании. Конкретные предположения на этот счет возникли у него в связи с поездкой высокопоставленных администраторов Союза писателей Фадеева, Симонова и Шария в Англию. Можно было полагать, что, обнаружив там «подлинный культ» Пастернака и встретившись с кругом людей, из которого шло выдвижение его на Нобелевскую премию, советские литературные администраторы удержатся от соблазна подвергнуть его остракизму.
По-видимому, здесь его ждало некоторое разочарование. Об этом он прямо писал Константину Симонову 11 мая 1947 года, спустя месяц после возвращения делегации в Москву:
Я надеялся, что в какой-то тысячелетней доле среди вещей, виденных делегацией и имеющих отношение к России, столкнетесь Вы и с той бессмыслицей, что я каким-то образом и в какой-то доле известен за границей, и это должно огорчать делегацию и приносить мне горе, и Вы или Шария, или даже Фадеев, среди тысячи других, более важных вопросов, привезете мне выправленную, более логичную, осмысленную и справедливую форму судьбы моей у себя дома. Но очевидно этого не случилось, потому что в противном случае, несмотря на Ваш или А<лександра> А<лександровича> недосуг, эта радость сказалась бы сама по себе на обстоятельствах, прорезалась бы и дошла до меня, а этого нет…[1345]
Как бы то ни было, поэт отказался пойти на компромисс, которого от него ждало и к которому его подталкивало литературное руководство. Из рассказа Вяч. Вс. Иванова о разговоре с Пастернаком у них дома мы узнаем, каким должен был быть этот компромисс:
Вышло так, что мама, папа и я уселись у одной стены на закрытой террасе, служившей нам летней столовой, а Борис Леонидович сел напротив нас. Мама передала ему содержание своего разговора с Фадеевым. Фадеев настаивал на том, чтобы Пастернак отмежевался от тех, кто о нем пишет на Западе. Борис Леонидович сразу же и очень решительно отказался: «Я не могу отмежеваться, потому что не вижу, где проходит эта межа». Потом Борис Леонидович добавил, что все об этом уже сказано — так, как ему хотелось бы сказать Ахматовой, прочитав на память ее стихи «Не с теми я, кто бросил землю»[1346].
Существо переданного через Ивановых устного ответа Фадееву содержалось и в ссылке на «тех, кто относится ко мне по-человечески», в пастернаковском письме от 11 мая 1947 года к К. М. Симонову, молодому прозаику и поэту, новому сталинскому выдвиженцу, бывшему вторым после Фадеева лицом в Союзе писателей и на фоне прожженных ортодоксов слывшему либералом с еще не искаженным бюрократической системой лицом:
Я не могу понять, почему перевести 6 пьес Шекспира, заложить основу к ознакомлению с целой молодой литературой и самому заслужить расположение какой-то, пусть небольшой, но не совершенно испорченной и уголовной части общества, почему все это — не советская деятельность, а сделать десятую часть этого и плохо — советская? Я далее не понимаю, отчего десятки заслуживающих этого пожилых беспартийных сделали «нашими», премировав их без допроса и таким образом признав за ними это звание, а я из-под взведенного на меня телескопа сам должен составлять свою рентгеноскопию и покупать это нашенство отречением от тех, кто относится ко мне по-человечески, в пользу тех, кто ко мне относится враждебно, и от тех остатков христианства и толстовства, которые при известном возрасте, неизбежны у всякого, кто проходит и заходит достаточно далеко, вступив на поприще русской литературы. Все это чистый бред и абсурд, на который при краткости человеческой жизни нельзя тратить времени. Тем более, что я ничего не боюсь. Моя жизнь так пряма, что любой ее оборот приемлем.[1347]
Так сложилось шаткое равновесие во взаимоотношениях Пастернака с властями, продержавшееся до смерти Сталина.
Как мы видим, первоначальное выдвижение Пастернака на Нобелевскую премию в январе 1946 года сразу оказалось в фокусе столкновений разнонаправленных векторов общественной и культурной жизни в разных странах Европы. Появление в 1957–1958 годах «Доктора Живаго» заставляло искать прототипа Евграфа, с его «защитной» ролью, в реальной жизни автора и даже предлагать Фадеева в кандидаты. Такое предположение лишено основания потому, что на деле именно на Фадеева (в ком некоторым захотелось увидеть такого защитника поэта) и было возложено в сентябре 1947 года осуществление антипастернаковского сегмента общей кампании. Относительная «мягкость» нападок на поэта не была следствием личного благоволения или могущества высокопоставленного чиновника; она явилась результатом того, что развернувшаяся борьба шла «на равных». Не таинственные покровители в верхах, не «Евграф», не Фадеев и не Симонов «спасали» Пастернака в той, чреватой грозными последствиями, атмосфере — судьбу его определила сложившаяся конфигурация международно-политических факторов. И какие бы ограниченные задачи ни ставил перед собой Н. О. Нильссон в заметке о Пастернаке в «Expressen», рассмотрение ее в целостной литературно-политической картине позволяет считать, что она действительно сыграла «защитную» роль в пастернаковской биографии. Она раскрыла особую высоту статуса поэта за рубежом в момент, несший в себе особую угрозу ему на родине.
____________________ Магнус Юнггрен, Лазарь ФлейшманRussian Diplomats and their Image of Germany before World War I
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Россия и Запад"
Книги похожие на "Россия и Запад" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Безродный - Россия и Запад"
Отзывы читателей о книге "Россия и Запад", комментарии и мнения людей о произведении.