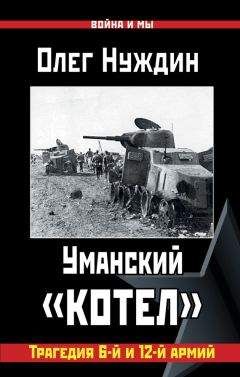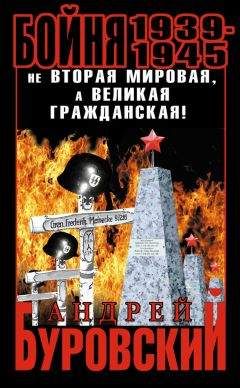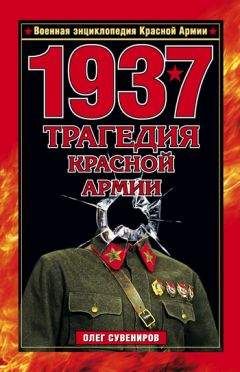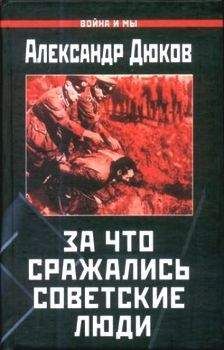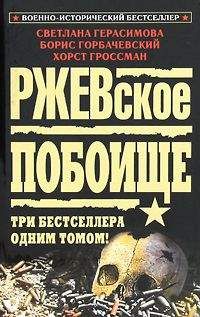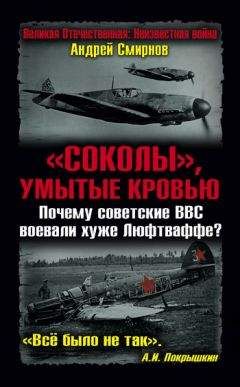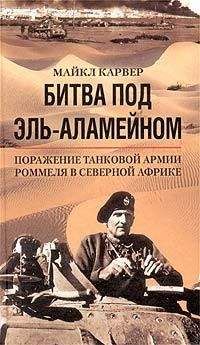Людмила Новикова - Провинциальная «контрреволюция». Белое движение и гражданская война на русском Севере
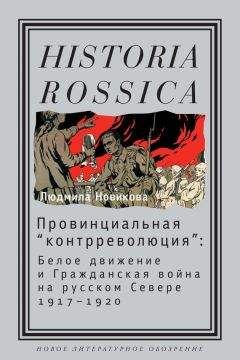
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Провинциальная «контрреволюция». Белое движение и гражданская война на русском Севере"
Описание и краткое содержание "Провинциальная «контрреволюция». Белое движение и гражданская война на русском Севере" читать бесплатно онлайн.
В глазах многих современников и историков российской Гражданской войны Белое движение было делом прежних имперских элит, не понявших и не принявших революцию. Белые желали вернуть прежнюю Россию. Это подчеркивал и возвышенный цветаевский образ «белогвардейской рати святой», и совсем не поэтичная белая «контрреволюция», о которой писали советские историки. Но к чему в действительности стремились белые правительства? Как белые управляли подконтрольной им территорией и мобилизовывали свои армии? Как население относилось к белым правительствам и к экспедиционным отрядам Антанты, выступившим в поддержку белых? И почему жители российских окраин нередко воевали вместе с белыми против большевиков? Исследование Людмилы Новиковой, посвященное истории антибольшевистской Северной области, – попытка дать ответы на эти вопросы. Основанная на материалах российских и зарубежных архивов, книга обращает главное внимание на политические пародоксы Белого движения, а также на провинциальный контекст белой борьбы, который в значительной мере определил ход и исход российской Гражданской войны.
В Печорском уезде основным инструментом установления большевистской власти стал красногвардейский отряд во главе с большевиком С.Н. Ларионовым. Он был послан на Печору из Архангельска в мае 1918 г. в ответ на разгон Мохченского волостного совета и убийство председателя волисполкома. Не ограничившись подавлением «антисоветского» восстания в Мохче, отряд Ларионова прошел рейдом по реке Печоре от Троицко-Печорска до Усть-Цильмы, организуя большевистские советы и разгоняя земские управы и комитеты. От власти был также отстранен действовавший с февраля 1918 г. эсеровский уездный исполком[217].
В Мезенском уезде большевики не смогли закрепиться даже в уездном совете. Созванный в апреле 1918 г. съезд делегатов уезда подтвердил полномочия прежней земской управы. Члены управы, включая ее председателя П. Алашева, были избраны в исполком совета рабочих и крестьянских депутатов. Съезд подтвердил власть советов, однако категорически выступил против установления власти одной политической партии[218].
Таким образом, в первой половине 1918 г. большевики с большим трудом взяли под свой контроль губернский и большинство уездных советов. Однако большевизированные городские советы были островками в море прежней сельской администрации, где советы, организованные, как правило, возвращавшимися домой фронтовиками, оставались нечастым явлением и где имелись лишь единичные члены партии большевиков[219]. Более того, даже в городах с весны 1918 г. архангельские большевики вновь стали утрачивать едва приобретенное влияние. Стихийная демобилизация расположенных в губернии воинских частей и флотских команд оставила большевиков без прежнего электората. Уже с конца 1917 г. в Архангельске перестал существовать Центральный комитет армии, так как солдаты в массовом порядке разъезжались по домам. В Мурманске в связи с отъездом строительных рабочих и демобилизацией армии и флота к концу весны 1918 г., по сведениям уполномоченного ЦК РКП(б), осталось всего три большевика[220]. Находившиеся на Севере части погрязали в мародерстве и грабежах. В Мурманске и Архангельске остатки флотских частей грабили военные склады и перехватывали частные и правительственные грузы, шедшие на юг по железной дороге. Демобилизованные солдаты и матросы устраивали такие погромы на станциях, что работники Мурманской железной дороги перед приходом поезда из Мурманска предпочитали прятаться в окрестных лесах. Местные командиры и политические лидеры, не видя другого выхода, добивались скорейшей демобилизации разлагавшихся частей[221].
Постоянное ухудшение экономического положения, вина за которое с конца 1917 г. возлагалась на советское правительство, еще больше подрывало авторитет большевистской власти в губернии. На лесозаводах вновь сократилось производство и почти полностью остановились лесозаготовки, в то время как возвращавшиеся домой демобилизованные солдаты только увеличивали число безработных. Чтобы не допустить остановки предприятий, заводские комитеты из выборных представителей рабочих стали брать управление в свои руки[222]. Однако завкомы, главной целью которых было сохранить рабочие места, не могли наладить эффективное производство и товарообмен. Поэтому уже весной 1918 г. все громче стали раздаваться требования национализировать предприятия, что означало присылку денег из центра. Но скудные субсидии, отпускаемые Москвой[223], не могли улучшить положение и лишь усиливали недовольство политикой центра. В Архангельске две с половиной тысячи рабочих судоремонтного завода грозили разгромить губисполком[224]. В Александровском и Кемском уездах, где большинство рабочих трудилось на Мурманской железной дороге и в порту, принадлежавшим казне, участились самосуды над государственными управляющими. Коллегия по управлению дорогой и Совет опасались, что будут сметены восстанием голодных рабочих, которые месяцами не получали заработной платы. Железнодорожники и строители тысячами покидали край. Рабочие, оставшиеся на месте без средств к существованию, вливались в вооруженные отряды, которые занимались грабежами местного населения[225].
Жители неземледельческого Севера остались не только без работы, но и без продовольствия. Вагоны с хлебом, направляемые в Архангельск с юга России и из Сибири, исчезали в пути. Тем временем упадок морских промыслов не позволял наладить снабжение населения даже рыбой. Весной 1918 г. запасы продовольствия сократились настолько, что губернский продовольственный отдел призвал население уменьшить потребление до минимума и грозно предупреждал: «Граждане, будьте готовы к самому худшему»[226]. Архангельский губисполком был в панике, предчувствуя приближение голодного бунта. А городской совет даже склонялся к тому, чтобы обратиться за продовольственной помощью к союзникам России по Антанте. В обмен он намеревался прекратить вывоз находившихся на Севере союзных военных грузов в центр страны, хотя это и могло привести к разрыву отношений с Совнаркомом[227].
Ухудшение экономического положения вызвало резкое падение авторитета большевистской власти даже в городах. С весны 1918 г. в Архангельске, как и в целом по стране, вновь начала быстро расти популярность умеренных социалистов. В июне архангельские меньшевики и эсеры призвали население к смещению «грабителей и предателей, стоящих у власти», и смогли добиться назначения перевыборов губернского и городского советов. Местные большевики были уверены, что им не удержать руководство в своих руках, и просили срочной присылки из центра агитаторов, чекистов и военных отрядов латышей[228].
Положение спасла приехавшая в Архангельск в конце мая «советская ревизия» во главе с комиссаром М.С. Кедровым, наделенным самыми широкими полномочиями. Вмешательство членов ревизии в проведение выборов смогло обеспечить большинство за большевиками и левыми эсерами в обоих советах. 21 июня архангельские большевики победно телеграфировали в Москву: «Руководство в наших руках благодаря товарищам советской ревизии» и просили оставить Кедрова в Архангельске еще на некоторое время, иначе «рухнет все дело»[229]. За переизбранием советов сразу последовало решение об исключении из них представителей оппозиционных партий. При поддержке «ревизии» в губернии стали проводиться в жизнь и другие решения Совнаркома. В Архангельске была распущена городская дума как учреждение, «не соответствующее духу и организации советской власти»[230]. Члены думы, равно как и полный состав архангельского комитета меньшевиков были арестованы новообразованной губернской ЧК. В июне – июле 1918 г. были закрыты последние небольшевистские газеты, проведена национализация торгового флота и банков[231].
Однако, несмотря на подавление организованной оппозиции, голод, с которым большевики не могли справиться все годы Гражданской войны, подпитывал массовое недовольство большевистской политикой. В начале июля в Архангельской губернии снова была сокращена норма продовольственного пайка, составившая 1 фунт хлеба в день для рабочих и солдат и полфунта для остального населения. Реальная же выдача продовольствия была еще меньше, и нередко в день выдавалось лишь 1/8 фунта плохого овсяного хлеба[232]. Но последней каплей, переполнившей чашу терпения и подтолкнувшей население к открытому выступлению против большевистской власти, стала мобилизация в Красную армию.
В конце июня 1918 г. руководство большевиков отчаянно опасалось высадки в Архангельске военного десанта Антанты, боевые экспедиционные части которой к тому времени уже находились в Мурманском крае и имели стычки с большевистскими отрядами. Чтобы организовать вооруженный отпор возможной интервенции, Архангельский губисполком объявил мобилизацию пяти возрастов. Решение удалось с большим трудом утвердить 2 июля на Втором губернском съезде советов[233]. Однако расчет на авторитет съезда не оправдался. Мобилизация привела к катастрофическим результатам. В Архангельский губвоенкомат потоком стали поступать резолюции крестьянских сходов и волостных советов, где говорилось об отказе от мобилизации со ссылкой на сенокос, на голод, на то, что большинство мобилизуемых уже провели по несколько лет в окопах и не желают больше воевать. В крестьянских резолюциях присутствовали и прямые обвинения большевиков в том, что те обещали хлеб и мир, а не дали ни того, ни другого. Крестьянские сходы нередко избивали красных агитаторов, выступавших за мобилизацию, и заявляли, что не будут воевать против союзников, которые единственные могут спасти население от голодной смерти[234]. Британский пароход «Эгба» с грузом хлеба, стоявший в Архангельском порту, заметно подстегивал просоюзнические симпатии среди населения голодного города и окрестностей[235].
В селе Ворзогоры Онежского уезда общее собрание граждан не только отказалось от мобилизации, но и арестовало прибывших красноармейцев, которые должны были выставить посты против интервентов. Крестьяне направили резолюцию в уездный военкомат, чтобы в волость красноармейцев более не присылали, так как жители войны ни с кем не желают. После неожиданного ареста ворзогорского священника, которого Архангельск подозревал в «контрреволюционной агитации», вспыхнуло открытое восстание. В соседние волости направились гонцы с призывом присоединиться к выступлению, а жители села встретили приближавшийся красный отряд ружейным огнем. Только после подхода подкрепления в числе 50 красногвардейцев с пулеметом Ворзогоры вывесили белый флаг[236].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Провинциальная «контрреволюция». Белое движение и гражданская война на русском Севере"
Книги похожие на "Провинциальная «контрреволюция». Белое движение и гражданская война на русском Севере" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Людмила Новикова - Провинциальная «контрреволюция». Белое движение и гражданская война на русском Севере"
Отзывы читателей о книге "Провинциальная «контрреволюция». Белое движение и гражданская война на русском Севере", комментарии и мнения людей о произведении.