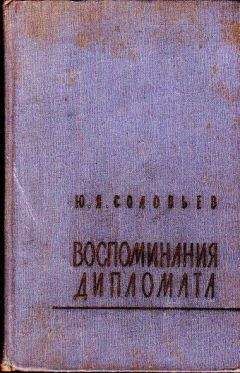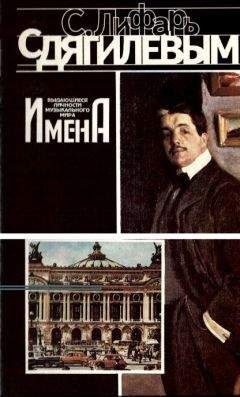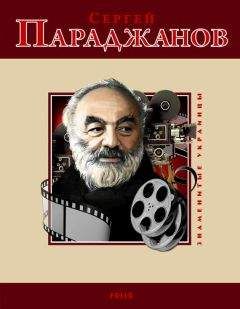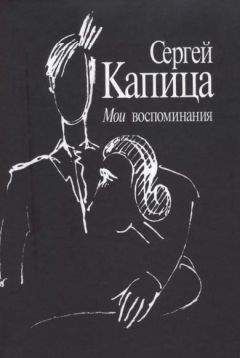Сергей Волконский - Мои воспоминания. Часть первая. Лавры
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Мои воспоминания. Часть первая. Лавры"
Описание и краткое содержание "Мои воспоминания. Часть первая. Лавры" читать бесплатно онлайн.
Я знал ее лично, но видал мало; и ближайшие ее друзья иногда месяцами не видали ее — она была с житейскими странностями, иногда пропадала, запиралась от людей; во Флоренции она проводила дни на террасе на крыше и почти не спускалась на землю. В последний раз я ее видел в Риме. Она пожелала познакомиться с вопросами сценического воспитания, которые меня занимали. Мы проговорили долго. Помню одно ее слово, так глубоко мне запавшее. Когда я сказал, что меня упрекают в том, что я обращаю внимание на мелочи, она сказала: «Как — мелочи! Да ведь театр — это как канат, он сплетен из ниточек. В театре нет мелочей».
Она любила вопросы своего искусства, со всех сторон подходила к ним. В то время она была занята проектом актерской колонии, которую собиралась устроить в окрестностях Рима, где бы актеры могли жить, заниматься, играть, гулять, могли бы, забыв борьбу за существование, отдаться искусству и отдыху. Дать им богатство внутренней жизни — вот что она хотела, и мнилось мне, что в ту минуту больное, страждущее существо одним болеет больше всего: невозможностью поделиться с другими тем, чем так богата сама. Ее душа сквозила в каждом слове, и душою было пропитано ее молчанье — она слушала душой. Блестели страдальческие глаза, и сколько раз рука поднималась к виску, чтобы отвести черную прядь волос, эту «непокорную прядь», которую так часто поминает Д'Аннунцио в своем романе «Il fuoco». Эту прядь мы хорошо знаем и по сцене; это то, в чем ее житейская нервность иногда просачивается в роль; слишком часто рука подымается к виску, а иногда и все пальцы входят в черные волосы; и слишком часто рука поправляет рукав, сползающий с плеча, или накидку… Это маленькие знаки большой истерзанности.
Во второй год войны я получил в Петербурге от ее имени просьбу посоветовать ей роль из русского репертуара. Следовало описание, довольно смутное, одной роли, которая ей показалась интересной; по моим соображениям это был как будто пролог из «Псковитянки». Она предполагала в то время объехать союзные страны и в пользу раненых воинов в каждой стране сыграть пьесу из репертуара этой страны. Я написал ей, что, по-моему, ей следует привезти в Россию «Каменного гостя»; этим она бы отдала дань уважения величайшему поэту русской земли, вместе с тем в роли Доны Анны не вышла бы из общеевропейской струи своего репертуара. И тут же я советовал ей, если бы она хотела дать нечто единственное, сыграть в «Каменном госте» обе роли. Я так хорошо вижу ее в обеих. Длинная, черная, плакучая висящая рука, и из руки висящий на черном платье белый платок. И — рыжая, яркая, искрометная, кидающаяся в объятия любовника. Да, отчего мы никогда этого не видели — Дона Анна и Лаура в одной Дузе?
Жалко расставаться с Дузе. А как трудно было начинать! Великий старик Бальзак сказал про литературный труд: «Его покидаешь с сожалением, к нему возвращаешься с отчаянием». Всякий раз как я в своем рассказе ставлю новое имя, начинаю новый портрет, я испытываю это отчаяние, мне кажется, что я никогда не превозмогу трудности, что мне нечего сказать. А когда сказал, что мог, жалко становится, что кончено, что приходится расставаться…
Когда говорят о Дузе-артистке, неизменно прибавляют: «Да, и такой прелестный в жизни человек». Когда говорят о Саре Бернар — человеке, неизменно прибавляют: «Да, но такая удивительная на сцене артистка». Да, удивительная, потому что это само искусство, это только искусство, без всякой примеси. Если бы меня спросили, какой самый великий пример техники, я не задумываясь скажу — Сара Бернар. Это самая полная, самая отчетливая картина сценического мастерства, какую я видал. И знаете, когда я это больше всего ощутил? Когда видел ее в последний раз в Париже, летом 1913 года. Не помню пьесы — костюмная, итальянского Возрождения; она играла мужскую роль — молодого поэта. Она была совсем стара; она не могла иначе стоять, как облокачиваясь на спинку кресла или опираясь на посох; фальшивые зубы занимали слишком много места во рту, стесняли дикцию; голос приобрел старческую надтреснутость. И все это было совершенно не согрето; как хотите называйте: жар, темперамент, душа — ничего не было; этот механический аппарат был пуст. Это был технический скелет, улетучилось всякое «что», осталось одно «как». Должен признаться, что это был самый изумительный «урок», какой я когда-либо видел. Смотрите, как будто говорила она, вот чем, вот какими способами, вот какими техническими приемами я играла, когда я была Сара Бернар. Это было поучительно; как никогда, вставала очевидность технической ткани под всем ее блистательным прошлым; она как будто задним числом раскрывала свои карты.
Представьте себе бурливый ручей; вы всегда любовались его шумом, пеной, брызгами, но вы не знали, как это получается; знали только, что получается от расположения и формы камней, которые ставят препятствия воде; изучить же расположение их под водой вы не могли. Но вот ручей высох, все наружу, все доступно наблюдению. Здесь было все то, чем весь свет восторгался в течение сорока пяти лет; тут были все замечательные средства Сары Бернар: знаменитый говорок, знаменитый шепот, знаменитое рычанье, знаменитый «золотой голос», — la voix d'or. И тут я вспоминал впечатление этого говорка, когда в «Даме с камелиями» она, опускаясь на грудь любовника, только не вперед, а назад, как бы навзничь, этим самым «знаменитым говорком» говорит, замирая: «Je t'aime, je t'aime, je t'aime», — бесчисленное количество раз, все слабее и слабее, погружаясь в блаженное замирание. Тут же вспомнил я трагический шепот, в стольких ролях пробегавший ужасом по зале. Вспомнил ее рычание, когда в «Тоске», заколов Скарпиа, она наклоняется над его трупом, повторяя одно слово — «Умри!» И это слово, в котором рычанье леопарда, вонзается в труп, как повторяющиеся удары кинжала; этим словом она добивает его. И, наконец, золотые верхи — басня о двух голубях, которую она читает во втором действии «Адриенны Лекуврер».
Все это великое разнообразие — ее собственность, ее особенность, и никогда не будет повторено в таком масштабе. Таких расстояний от радости к горю, от счастия к ужасу, от ласки к ярости я никогда не видал; такой «полярности» в театральном искусстве нам, то есть нашему поколению, никто не показывал.
Если Дузе в Джульетте давала два полюса того же существа — от девочки до сломленной женщины, то Сара Бернар в «Тоске», например, давала положительно два мира. Она входит в церковь, где ее возлюбленный пишет образа. Кто не видал портрета ее в костюме Директории, в большой, в чрезмерной розовой шляпе? Отягченная снопом цветов, стоит она, слегка наклонив голову, и любуется работой возлюбленного; ей все нравится, только зачем у одной из изображенных на образе святых черные глаза? Это ей напоминает одну женщину, которая на ее возлюбленного засматривалась. Глупости, пустяки — он высмеивает, подшучивает, она забывает, смеется; вся сцена — одна безоблачная радость. И только уже уходя, она останавливается перед картиной, наступает краткое мгновенье сосредоточенности. «Fais lui des yeux bleus» (Сделай ей синие глаза) — уходит. Что было прелестно в том, как она произносила эти слова, это то, что чувствовалось под ними невысказанное слово: «а все-таки». Это невысказанное слово было зернышком всей будущей трагедии — «а все-таки» все это счастье оказалось призраком; и в последнем действии, лишенная всего, истерзанная пыткой и издевательствами, перед трупом расстрелянного любовника она кидает в лицо расстрелыцикам, она им харкает в лицо: «Каналья!» — и соскакивает со стены бастиона в пропасть, только чтобы не умереть от их пуль. От этого «Сделай ей синие глаза» до этого «Каналья!» — расстояние двух миров.
Как в страдальческом репертуаре Дузе стоит отдельно вкрапленная лукавая, разбитная «Трактирщица», так в трагическом репертуаре Сары Бернар среди ролей с ядом и кинжалом светится маленькая «Фру-фру» — тип легкомысленной светской женщины, поощряющей ухаживания, играющей с огнем и не предвидящей, что из этого выйдет. А выходит удивительная сцена между двумя сестрами, ссора, в которой маленькое легкомысленное существо раскрывает неожиданные глубины своей обнаженной души. Помню в этой сцене, — да все помнят, кто только видел ее, — в дрожащих, гневных руках маленькой Фру-фру в клочья разорванный кружевной платок…
Последняя степень мастерства были ее взрывы. Никогда в кульминационной точке она не давала впечатления надорванности, как если бы ее не хватало; напротив, она давала впечатление, что ее хватило бы и на большее. Отличительная черта французов — это уменье распределять свои средства. Не тем они осуществляют эффект, что поднимаются до последних пределов силы, а тем, что вначале уменьшают, ослабляют, опускают ниже нормы, что называется, reculer pour mieux sauter, «отступить, чтобы лучше прыгнуть». Никто даже среди французов не достигал в этом отношении мастерства великой Сары. Как она умела принизиться, чтобы вскочить, собраться, чтобы броситься; как она умела прицелиться, подползать, чтобы разразиться. То же самое в ее мимике; какое умение от едва заметного зарождения до высшего размаха. В той же «Тоске», когда она, истерзанная, изнеможенная, вынуждена наконец сдаться старому Скарпиа, чтобы ценою своего позора купить свободу своего возлюбленного, она, как одурманенная, стоит около стола, на котором старик оставил свой недоконченный ужин. Он пошел к письменному столу написать пропуск… Она стоит около обеденного стола, положив правую руку на скатерть. Вдруг в этих глазах, одурманенно блуждавших, мгновенная остановка — они что-то увидали: на столе, почти около ее руки, кухонный нож. Как после этого изменяется, внутренне растет этот взгляд; как из тупого он превращается в острый, острей самого ножа; как из увидавшего он превращается в видящий, из видящего в понимающий, из понимающего в решающийся и, наконец, из решающегося в решившийся! И как мгновенно все это пропадает в ту минуту, когда схватившая рука спрятала нож за спиной. Спокойная, она ждет подходящего к ней с бумагой Скарпиа… Взмах тигрицы — он падает, пораженный… Тут она рычит над ним свое знаменитое «Умри!» и потом вдруг просыпается в ней христианский испуг перед содеянным. Она снимает со стены распятие и опускает на грудь распростертого на полу трупа; она снимает с комода две зажженные свечи, на длинных, висячих руках несет их через сцену, как какая-нибудь жрица в торжественной процессии, и, поставив оба подсвечника по обе стороны мертвой головы, не спуская глаз с него, медленно отходит к двери, приотворяет и, как лист бумаги, проскальзывает в щель.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мои воспоминания. Часть первая. Лавры"
Книги похожие на "Мои воспоминания. Часть первая. Лавры" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Волконский - Мои воспоминания. Часть первая. Лавры"
Отзывы читателей о книге "Мои воспоминания. Часть первая. Лавры", комментарии и мнения людей о произведении.