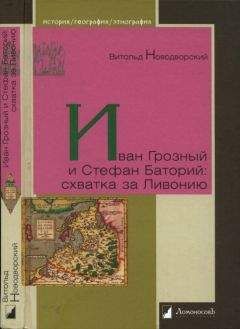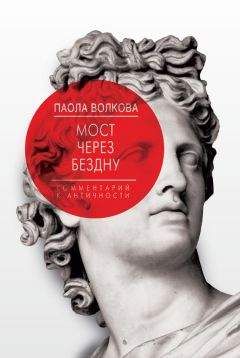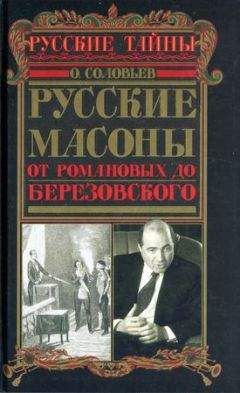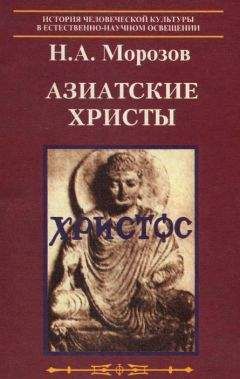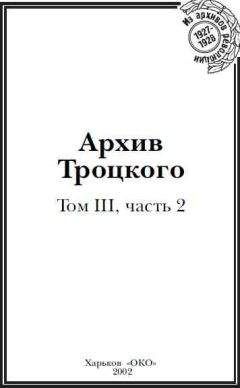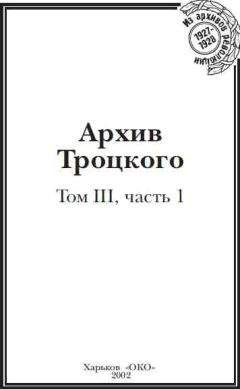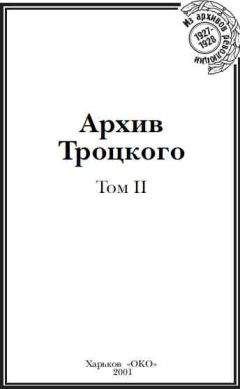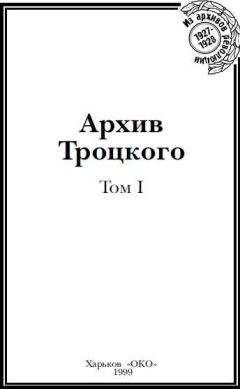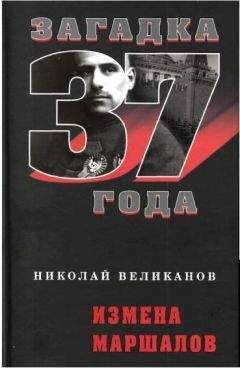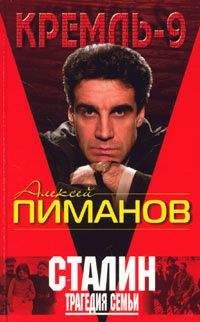Николай Соколов - Образование Венецианской колониальной империи
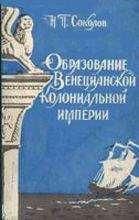
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Образование Венецианской колониальной империи"
Описание и краткое содержание "Образование Венецианской колониальной империи" читать бесплатно онлайн.
От автора OCR:
О причинах плохого качества источника, с которого выполнен OCR, см. в биографии автора (ссылка выше).
Пример исправленных грубых опечаток:
В источнике:
109. Договор напечатан у Креймайра по специально для него сделанной выписке из венец. архива (цит. соч., т. I, стр. 467, 648).
{Фамилия дана неверно; также сомнительно, чтобы одна выписка из архива располагалась не на двух страницах подряд, а через 181 страницу от ее начала}.
Исправленный вариант:
109. Договор напечатан у Кречмайра по специально для него сделанной выписке из венец. архива (цит. соч., т. I, стр. 467, 468).
Необходимо отметить вместе с тем и крайнюю неравномерность в трактовке отдельных периодов: из шести томов только один уделен истории Венеции на протяжении первых восьми столетий ее существования, тогда как истории последних трех с половиной столетий отведено пять томов. Это, впрочем, также определяется подходом автора к имевшимся в его распоряжении источникам.
Сочинение Дарю надо признать в настоящее время совершенно устаревшим, и нет необходимости останавливаться на многочисленных ошибках, которые в нем встречаются. Дарю интересуется преимущественно политической историей, вследствие чего очень важные вопросы колониальной политики или вовсе оставляются без внимания, или трактуются очень поверхностно: хрисовулу императора Алексея от 1082 г., открывающему собою новую эпоху в истории венецианской экономики, отведено только шесть строчек.[251] Самый состав Венецианской колониальной империи определен без достаточного внимания к деталям вопроса и умения разобраться в этих деталях.[252] Односторонность в использовании источников заставляла Дарю беспомощно опускать руки даже там, где он чувствовал необходимость критической проверки известий венецианских историков и анналистов. Изложив историю экспедиции Пьетро Орсеоло II и справедливо заподозрив достоверность полученных им от венецианцев сведений, Дарю пишет: „Их рассказ мне кажется неправдоподобным… но в моем распоряжении нет документов, которые я мог бы противопоставить венецианским историкам“, и он вслед за Сабеллико покорно рассказывает о назначении на пост венецианского комита[253] в Дубровник сына дожа, Отто, который не особенно задолго перед тем вышел из пеленок.[254]
Ни в каком отношении не выше труда Дарю стоит произведение другого француза, вышедшее в 1847 г., сочинение Леона Галибера, названное им также „Историей Венецианской республики“.[255] Сочинение это значительно меньше по своим размерам и состоит из одного, правда довольно объемистого, тома. Оно рассчитано на широкую публику, и автор не считал необходимым объяснять, откуда он заимствовал те или другие приводимые им сведения.
Эта книга распространила немало превратных сведений по интересующим нас вопросам. Мы узнаем из этого сочинения, что накануне похода Пьетро Орсеоло к далматинским берегам в Далмации образовалось „нечто вроде лиги“ для „более эффективного противодействия непрерывным нападениям“ славянских пиратов; для того, чтобы придать большую устойчивость этой „конфедерации“ и „большую концентрацию их рассеянным силам — узнаем мы далее — города предложили Венеции стать во главе их“; здесь же сообщается далее, что Пьетро Орсеоло согласился на это под условием, чтобы „магистраты союзных городов“ принесли присягу на верность республике и чтобы их войска выступили против общего врага под венецианским знаменем; здесь же, наконец, Задар назван „древнейшим союзником“ Венеции, а победа дожа представляется, как заключительный момент борьбы, „которая длилась более полутораста лет“.[256]
Галибер всерьез принимает сообщение Барбаро о том, что венецианцы хотели перенести столицу созданной им империи с берегов Адриатики на берега Босфора.[257] Специфически католический оттенок чувствуется в сообщении, что стесненный в средствах император Латинской империи Балдуин II заложил венецианцам „терновый венец Иисуса Христа, еще запятнанный его кровью“.[258] Можно подумать, что перед нами не сочинение XIX в., а труд какого-нибудь монаха раннего средневековья.
Из сочинения Галибера нельзя получить истинного представления ни о составе, ни тем более об организации Венецианской колониальной империи.
В промежуток времени между выходом в свет трудов Дарю и Галибера было издано в Дрездене в небольших пяти томиках сочинение Фердинанда Филиппи.[259] Эта работа представляет собою добросовестную компиляцию вышедших до того времени различных трудов по истории Венеции. Сочинение рассчитано на широкую читающую публику и очень кратко: вся история Венеции от начала по XIII столетие дана автором на 142 страницах первого томика. При такой трактовке сложных исторических проблем неизбежны такие „обобщающие“ суждения, как замечание Филиппи о походе Витале Микьеле после событий 1171 г.: „Он обратился сначала против Дарданелл, осаждал и разрушил до основания Трогир и Дубровник“…[260] Здесь в немногих словах сказано очень много неверного или неточного.
Революционные события 1848 г. и предшествовавшее им движение вызвало к жизни значительное итальянское сочинение по истории Венеции первой половины XIX в., „Историю Венецианской республики“ Джузеппе Капелетти, которая уже упоминалась нами выше.
Оба первые тома „Истории“ Капелетти вышли в 1848 году. Предисловие писалось в то время, когда на мгновение воскресла Венецианская республика, и автор имел возможность посвятить свой труд тогдашнему ее президенту Даниеле Манину.[261]
Автор — венецианский священник. Его позиция — позиция неогвельфизма, — он хотел бы видеть Венецию в качестве одной из республик большой итальянской федерации городов под папским верховенством. Он в то же время и националист. Для него французы времен наполеоновских походов — „северные варвары“, — разрушившие прекрасную Венецианскую республику.[262] Славяне, позволившие себе отстаивать свою независимость перед лицом Адриатического Карфагена, трактуются им как „варварская орда“[263], король хорватский Крешимир именуется „главарем свирепых горцев“.[264]
Капелетти „написал“ на своем историческом знамени истину, одну только истину, — он не ручается, что напишет хорошую историю, но уверен в том, что пишет историю правдивую.[265] Его „объективизм“ должен идти настолько далеко, что „выясняя причину войны — по его мнению — не следует одобрять ее как справедливую, ни порицать, как несправедливую“.[266] Но, разумеется, его национализм, его неогвельфские убеждения и священнический сан не позволили ему удержаться на столь торжественно декларированных высотах истины. К тому же, обширные венецианские архивы, с которыми он несколько знакомит читателя, использованы им в прискорбно малых размерах. Мы увидим это далее.
Автор делит венецианскую историю несколько необычно на три таких периода: республику демократическую, республику аристократическую, республику, порабощенную иноземным господством, и думает, что Венеция с 1848 г. вступила в четвертый период своей истории, — республики народной демократической.[267] Бесполезно оспаривать эту „периодизацию“.
Интересующие нас проблемы разработаны автором в конце второй и третьей книг его труда.
Первое выступление Венеции на пути расширения сферы ее политического влияния, поход Пьетро Орсеоло II, превращается у него в „завоевание Истрии и Далмации“, причем он с негодованием отвергает подозрения Дарю относительно истинного характера подчинения далматинских городов.[268] В истории крестовых походов Венеции, по его мнению, не достает не славных подвигов, а известий о них.[269] Четвертый крестовый поход, оказывается, был ничем иным, как „защитой невинности, помощью скорбящим, мщением за самую несправедливую узурпацию“.[270]
Автора не особенно интересуют основные экономические и политические проблемы рассматриваемого им времени: знаменитому хрисовулу Алексея I он отводит только четыре строчки[271], венецианские владения после четвертого крестового похода изображает кратко и отчасти неверно[272]; но как священник, Капелетти серьезно интересуется захваченными в Византии реликвиями, и спором из-за мощей св. Николая объясняет происхождение первого столкновения венецианцев с пизанцами в 1099 г.[273]
Восстания Задара Капелетти объясняет не политическим и экономическим гнетом дорогой для него Венецианской республики, а посторонними влияниями — хорватов в XI в., венгров в XII в. — и легкомыслием жителей — во всякое время.[274] Единственной причиной войн Венеции с Падуей и Тревизо в начале XIII в. Капелетти считает ссору из-за „замка любви“.[275] Стремление прославить свое отечество и антигибеллинские чувства приводят автора к доказательствам достоверности еще Санди отвергнутой легенды о битве при Сальворе, в которой 30 венецианских кораблей будто бы победили 60 императорских, причем он не останавливается перед необходимостью в этом случае отвергнуть авторство Ромуальда Салернского в отношении носящей его имя хроники.[276] Целых 22 страницы заполняет он неубедительной полемикой с авторами, отвергающими эту легенду.[277]
Колониальными делами Венеции Капелетти интересуется постольку, поскольку республика вела за обладание ими войны с соседями или с населением захваченных территорий. Он сравнительно подробно повествует о делах на Крите, но не вникает вглубь событий, занимая читателя лишь военными подробностями. Справедливость требует, однако, отметить, что в этой борьбе он вполне резонно усматривает со стороны греков борьбу за свободу.[278]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Образование Венецианской колониальной империи"
Книги похожие на "Образование Венецианской колониальной империи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Соколов - Образование Венецианской колониальной империи"
Отзывы читателей о книге "Образование Венецианской колониальной империи", комментарии и мнения людей о произведении.