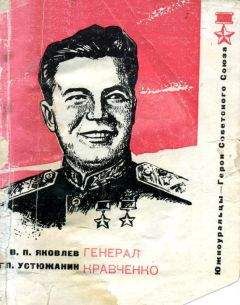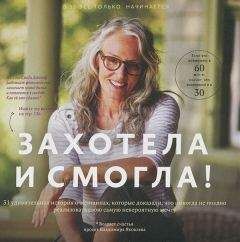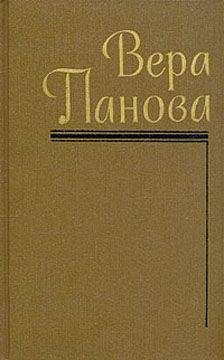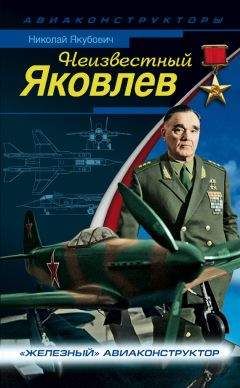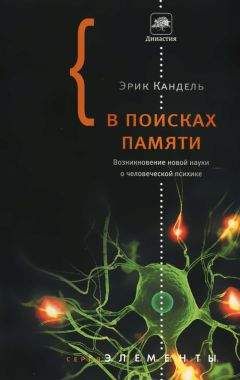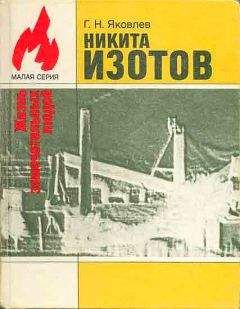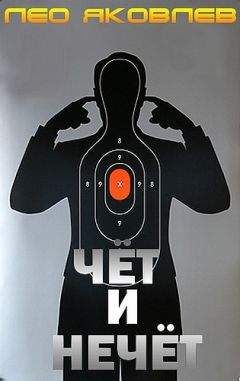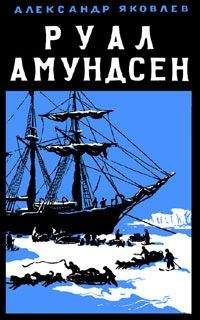Александр Яковлев - Омут памяти
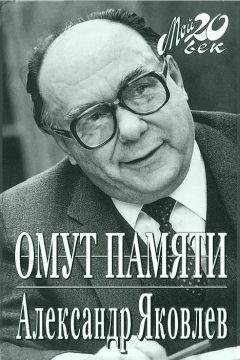
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Омут памяти"
Описание и краткое содержание "Омут памяти" читать бесплатно онлайн.
Я уже писал о миллиардных средствах, которые вбухивались в импорт зерна из-за границы. В самом начале XX века известный русский журналист Влас Дорошевич написал очерк о гастролях Шаляпина в Миланской опере. Федора Ивановича встретили поначалу враждебно. Один итальянский певец объяснил Дорошевичу такое неприятие следующим образом:
— Если бы к вам, в вашу Россию, стали ввозить пшеницу, что бы вы сказали?
Увы, прошли десятилетия, пшеницу ввозят в Россию, и мы молчим.
Десятой доли золота, потраченного на закупку зерна, хватило бы на создание эффективной инфраструктуры сельского хозяйства, что привело бы к резкому сокращению потерь при уборке, перевозке, хранении и переработке сельхозпродуктов. Но, увы, агрокомплекс остается без эффективной инфраструктуры до сих пор — без дорог, без современных перерабатывающих предприятий, без добротных хранилищ, без специальной техники.
Или взять капитальное строительство, в котором нарастала в огромных объемах "незавершенка" — эта зацементированная, воплощенная в мертвом железобетоне инфляция, это загубленное народное благосостояние.
А разве не народные деньги тратились на военные авантюры и военную помощь тем правителям за рубежом, которые объявляли себя "социалистически ориентированными". Никто пока не знает, сколько стоили в материальном выражении военные вмешательства во внутренние дела Венгрии, Чехословакии, Афганистана, поставки оружия в десятки стран Азии, Африки, Латинской Америки.
Немало средств ухлопано на борьбу с инакомыслием, на разработку и оплату связанной с этим техники, на содержание осведомителей, иными словами, на тайную войну с собственным народом, особенно с интеллигенцией.
Вот они, черные бездонные дыры, которые поглотили сотни тысяч километров дорог, тысячи и тысячи жилых домов, детских учреждений, театров, библиотек и многое другое. Труд и гений человека, богатства природы, материальные ресурсы расходовались неподконтрольно — ни по целям, ни по объемам, ни по эффективности. Бесхозяйственность прямо проистекала из ничейной собственности, из обезличенного и обесцененного труда.
Когда собственность ничья, а те, кто распоряжается ею, практически бесконтрольны, рождается уникальная преступная структура, в которой мафия сращивается с государством. Точнее, само государство, чем дальше, тем больше, превращается в мафию — и по методам деятельности, и по отношению к человеку, народу в целом. И даже по своей психологии.
Опыт развития России наглядно показал, что на путях плановой обобществленной экономики нельзя преодолеть отставание от передовых стран в области производительности и культуры труда, технологии, преодолеть не отдельные частные отставания, но отсталость как явление, как хроническое состояние. Программа преодоления рынка и рыночных отношений оказалась на деле программой уничтожения исходных оснований экономической цивилизации.
Страна быстро шла к экономическому и политическому краху. Он был неминуем, и только кардинальные перемены могли предотвратить катастрофу. Общественное мнение, особенно после XX съезда КПСС, жило ожиданиями нового образа жизни и смены абсурдной эпохи. Семена сомнений и недовольства прорастали с необыкновенной быстротой. Вспомним исповедальную деревенскую прозу. Вспомним горячие всплески протеста в стихах поэтов и песнях бардов. Вспомним расхожие анекдоты, беседы за полночь на кухне и многое другое. Потихоньку восстанавливалось дыхание России. И как ошеломляюще действовало на нас осознание убожества и мерзости бытия, чувство собственного бессилия, идущее от липкого унизительного страха перед властью, равно как и от нашей лени — физической и душевной, от неумения и нежелания победить самих себя, от неуважения к самим себе, острого дефицита личного достоинства.
И все же власть держалась. На еще сохраняющемся страхе. Еще опираясь на опытную номенклатуру, на карательные службы. Выдыхалась, обрастала анекдотами, насмешками, но держалась. Однако после трех похорон подряд — Брежнева, Андропова и Черненко — все покатилось вниз с нарастающей скоростью. Номенклатурный корабль охватила растерянность, его пассажиры оказались перед необходимостью срочного ремонта проржавевшего корпуса и замены допотопных двигателей. О строительстве нового корабля речи пока не шло.
Рьяные защитники большевизма говорят, что все было не так уж плохо. Надо, мол, видеть и хорошие стороны жизни. Конечно, надо. Всегда была и пребудет вечно живая жизнь. Она цвела и буйствовала даже на вечной мерзлоте сталинизма, ее не заморозили ни льды страшных репрессий, ни духота официального мономыслия и моноверы. Но трагедия народа не перестает быть трагедией.
Спрашиваю себя: а не было ли в этих условиях изначального упрощения в переходе к рынку с сугубо "технологической" точки зрения? Знаю, с каким трудом пробивала себе дорогу эта идея на практике. Сколько гневных тирад обрушилось на головы тех, кто предлагал решительнее идти к нормальной экономике. И все же не покидает ощущение, что переход к рынку представлялся многим из нас как некое одномоментное мероприятие: рынок "с 1 января X года". Но такое невозможно. Необходимы, объективно неизбежны разные стадии в процессе такого перехода: и по глубине проникновения рыночных отношений в экономику, и по тому, какие ее сферы и в какой последовательности будут захватываться рынком. Именно сферы, а не отрасли.
Зная об этом наследии, мы тем не менее стали смело наступать на те же грабли. С моей точки зрения, введение рыночных отношений надо было начинать с торговли и сельского хозяйства, дав полную инициативу купцу и крестьянину. То, что не был осуществлен кардинальный поворот к потребительскому рынку, предопределило дальнейшие беды, включая финансовые. Правительство не сумело спрогнозировать последствия резкого сокращения товарных запасов, равно как и не смогло отреагировать быстро и эффективно на этот процесс, когда он обрел катастрофические размеры.
Все эти годы объемы внутренней торговли росли только за счет роста цен. Структурной перестройки промышленности не произошло, доля группы "Б" оставалась на том же уровне, что и загнало экономическую перестройку в тупик. До 1990 года включительно объемы производства в оборонной промышленности продолжали наращиваться. Полным провалом закончилась ресурсосберегающая политика правительства. При сохранении приоритетности группы "А" иначе и быть не могло. Осталась нетронутой и нелепая система ценообразования. Ничего практически не было сделано для сокращения или хотя бы ограничения дотаций планово-убыточным предприятиям и хозяйствам. Особенно это касается агрокомплекса. Политика импорта оказалась на поводу у ведомственных и групповых интересов. Антиперестроечные силы предпринимали целенаправленные усилия к тому, чтобы не допустить смягчения товарного голода в стране.
Смысл всех подобных усилий был сугубо политическим: не дать Реформации записать в свой актив хотя бы одно реально благое для народа дело. Но делалось все возможное, чтобы максимально настроить людей против политики преобразований, объявить реформы и реформаторов виновными за все переживаемые людьми невзгоды.
Когда я думаю о самой Перестройке и ее последствиях, все больше убеждаюсь в огромной силе "коллективизированной совести", тормозящей наше движение к свободе. Речь идет о характере массовой психологии. Нас, реформаторов, частенько ругают. Иногда поделом, а порой просто так, по инерции. Оправдываться бессмысленно, да и нужды не вижу. Скажу только, что мы, как и многие другие, и сами были типичными советскими людьми, жертвами киселеобразной, но и беспощадной "коллективизированной совести".
Хорошо известно, что "созидание нового человека" — Номо soveticus — шло через моноидеологию, которая рассматривала его как "совокупность общественных отношений". Террор физический, выделывание (по Бухарину) нового человека из "капиталистического материала" имели своей задачей формирование простого винтика или одноразового шприца. Ленин — Бухарин — Сталин — Жданов — Суслов — наиболее видные "коллективизаторы совести". Им померещилось, что в Марксовом коллективном стаде, обществе-фабрике, ленинско-сталинском обществе-казарме с карцерным ГУЛАГом и рабоче-крестьянской гауптвахтой можно и должно строить "рай земной", забыв о духе человеческом, о том, что сотворен человек из праха и в прахе Вечности дотла сгорают гордыня и прочие грехи и пороки его.
Коллективизация совести достаточно успешно шла через партизацию. Многомиллионной партии была предложена одна совесть, равно как и комсомолу. Если приходил новый "вождь", то все равно ее основные заповеди сохранялись в их девственной первозданности, хотя уже изрядно проституированной.
Брежнев был прав, когда говорил, что появилась новая общность людей — советский народ, то есть народ с коллективизированной совестью. Ибо большинству ничего не стоило аплодировать расстрелам, требовать смерти вчерашним закадычным друзьям и собутыльникам, травить Пастернака и Бродского, чьих книг оно и в глаза не видело, объявлять Солженицына "предателем", топтать Сахарова и творить прочие мерзости.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Омут памяти"
Книги похожие на "Омут памяти" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Яковлев - Омут памяти"
Отзывы читателей о книге "Омут памяти", комментарии и мнения людей о произведении.