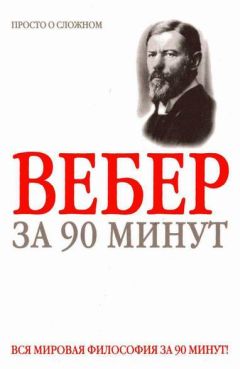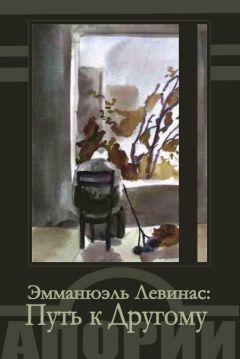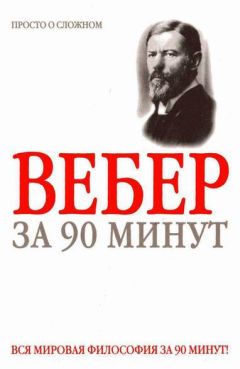ЭММАНЮЭЛЬ ЛЕВИНАС - ЭММАНЮЭЛЬ ЛЕВИНАС: ПУТЬ К ДРУГОМУ
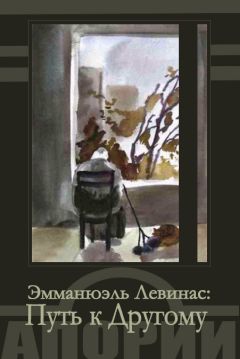
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "ЭММАНЮЭЛЬ ЛЕВИНАС: ПУТЬ К ДРУГОМУ"
Описание и краткое содержание "ЭММАНЮЭЛЬ ЛЕВИНАС: ПУТЬ К ДРУГОМУ" читать бесплатно онлайн.
Настоящее издание является результатом работы теоретического семинара, посвящённого творчеству Э. Левинаса, проходившего на философском факультете СПбГУ в 2004-2005 гг. Книга содержит исследования наследия французского философа, переводы его работ, библиографию.
Смысл экзистенциальной аналитики я определяю следующим образом: посредством указания на определенные способы моего существования в повседневной жизни я могу совершить переход к анализу фундаментальных категорий бытия и моего сознания. Первый вопрос, на который здесь необходимо ответить, это то, насколько экзистенциальная аналитика соотносится с онтологическим подходом, используемым Левинасом. Напомним, что в состоянии «бессонницы» возможно схватывание безличного бытия («Время и Другой»). В работе «От существования к существующему» такими состояниями являются «лень», как невозможность начать и завладеть своим бытием, и «усталость», как усталость от бытия. Иными словами, это такие состояния, в которых кажет себя «голое» бытие без существующего.
Чтобы ответить на вопрос об онтологичности экзистенциальных мотивов и, следовательно, об их легитимности для Левинаса, обратимся в первую очередь, конечно же, к Сартру. Вспомним, что основным методом его варианта феноменологии был онтологический метод. И экзистенциальная тема логически следует из этой предпосылки. Основополагающей является категория бытия, с которой соотносятся особые модусы бытия для-себя (пререфлексивное сознание) и в-себе (бытие феномена). Мы видим, что сознание имеет онтологические корни. И основной теоретический тезис экзистенциализма, что сущность определяется посредством существования, основывается на том фундаментальном факте, что сознание сначала существует, и потом только определяемо предикатами. В повседневности теория следующим образом согласуется с практикой: сначала есть поступки (экзистенциальный выбор), а потом на их основании дается определение совершившему эти поступки.
В строгом смысле слова привлечение экзистенциальных ситуаций повседневной жизни для указания на фундаментальные онтологические акты и состояния не противоречат исходной предпосылке онтологического подхода Левинаса. Вспомним, что Хайдеггер в работе «Что такое метафизика?» также указывал на экзистенциальную ситуацию страха (как впрочем и Сартр) в которой мы получаем представление о Ничто. Здесь стоит оговориться, что по Левинасу для Ничто нет места в тотальной анонимности бытия. Но здесь важна принципиальная схожесть методов философствования.
Я рассматриваю эти темы воедино, поскольку они обе являются первостепенными проблемами у Гуссерля, Хайдеггера, Сартра и Левинаса. Но только последний сопоставил эти темы их в их взаимосвязанности.
Обратимся к прежде всего к Гуссерлю. Его ретенциально-протенциальная теория времени связана с трансцендентальной структурой сознания и рассматривается в гносеологическом аспекте, как раз в том аспекте, который и не интересует Левинаса. Т.е. время Гуссерля - феномен чистого сознания, но отнюдь не факт бытия. То же самое касается и теории интерсубъективности: конституирование другого осуществляется посредством моих ментальных актов, в интенциональных данных моего сознания. Речь идет о статическом методе, когда анализируются редуцированные данные моего сознания. Впрочем, у Гуссерля есть указания на генетический метод решения данного вопроса, который связан с временным измерением. Коротко: не-онтологический подход Гуссерля идет вразрез с онтологическим методом анализа Левинаса.
К примеру, то, что Гуссерль не разрабатывал тему бытия сознания, было основным упреком Сартра и повод для разработки онтологического варианта феноменологии. Тема времени и интерсубъективности у Сартра связана с недостатком бытия-для-себя в бытии и его свойством стремиться восполнить этот недостаток, в интенции быть тем, что оно не есть. Существует три таких ситуации, три эк-стаза: время, рефлексия и связь с Другим. В последнем случае стремление сознания быть тем, что оно не есть, достигает пределов исхождения из самого себя в факте внутренней негации бытия другого. Таким образом, анализ интерсубъективной проблемы у Сартра явился следующим этапом после анализа временной тематики и рефлексивной структуры сознания, и проблема интерсубъективности выступает лишь как косвенным образом связанная с ней доведенная до своего предела тенденция сознания не быть самим собой.
Все кардинальным образом отличается в теории Левинаса. К понятию Другого он подходит постепенно, сначала говоря об Ином, представленном в свете моего сознания. В этой связи я хочу указать на один очень важный узловой момент у Левинаса:
Свет позволяет встретить помимо себя нечто иное, но так, словно бы изошло от меня. [.] Разум одинок. В этом смысле познание никогда не встретится в мире с чем-то поистине иным212.
Здесь заключено очень важное различие, которое с моей точки зрения и характеризует важное в интуиции Левинаса: речь идет о поиске такого Иного, которое является абсолютно иным по отношению ко мне в том смысле, что оно «не-мое», как, к примеру, предмет восприятия, поскольку в известном смысле он - моя собственность, озаренная светом и мною воспринятая. (Справедливости ради стоит заметить, что эта тема отграничения моего сознания от иного имеется и у Сартра на стадии определения самости моего бытия в отношении бытия-в-себе перед разработкой собственно интерсубъективных отношений, осуществимых посредством внутренней обоюдной негации).
Сам Левинас пишет об этом различии:
Встречающийся мне объект постигается и конституируется мною, тогда как смерть предвещает событие, над которым субъект не властен, относительно которого субъект более не субъект213.
Теперь мы подходим к кульминационному пункту в теории интерсубъективности Левинаса - к тому моменту в его работе, где он говорит о появлении собственно понятия Другого как субъекта.
Но эта ситуация, а именно: с субъектом происходит событие, а он не берет его на себя, ничего сам не может мочь, хотя некоторым образом к нему обращен, - есть отнесенность к другому встреча с лицом, одновременно открывающим и скрывающим другого. Другое, взятое на себя, есть Другой214.
И ниже:
Представляется, что связь с будущим, присутствие будущего в настоящем совершается лицом к лицу с другим. Тогда ситуация лицом к лицу есть само свершение времени. Захват настоящего будущего - не акт (жизни) одинокого субъекта, а межсубъектная связь. Ситуация бытия во времени - в отношениях между людьми, то есть в истории215.
Собственно в этих цитатах и заключена основная идея работы «Время и Другой». Что мы здесь имеем: одинокий субъект сталкивается с фактом смерти, в котором он имеет дело лицом к лицу с совершенно иным, что не находится в его власти. И автор заключает далее, что в собственном смысле слова Другое есть Другой. Проблема как раз заключается в осуществлении этого перехода, поскольку сжатые страницы «Времени и Другого» не дают развернутого ответа на этот вопрос. Можно это интерпретировать так, что выражение «лицом к лицу» (лицо относится к живому существу) дает повод к такому заключению. Но тогда мы остаемся во власти языковых игр. Однако наша речь в большей степени затемняет суть дела, чем проясняет ее. Хотя, если принять во внимание тезис Хайдеггера о языке как доме бытия, то в силу онтологичности данного утверждения, работа с языком оправдана и для онтологической методы Левинаса.
Итак мы имеем: тяготы относят к понятию смерти, перед которой мы лицом к лицу сталкиваемся с Иным в его абсолютном значении, которое в строгом смысле этого слова является Другим и указывает на плюралистич-ность актов-существования. Появляется время как таковое.
Я хотел бы просто довести до конца мысль Левинаса, и указать на некоторые ситуации, когда правомерность его рассуждений может быть поставлена под вопрос. Здесь я хотел бы сделать следующие замечания:
1. В любом случае мы обретаем только второе временное измерение - будущее, и речи не идет о прошлом, об истории субъекта. Тогда временное измерение остается неполным.
2. Жизнь необязательно, вернее не для всех без исключения, полна тягот физического труда и страдания. В этом физиологическом смысле лишений можно представить себе людей, которые лишены таких повседневных тягот. В соответствии с концепцией Левинаса у них может быть лишь запоздалое понятие о смерти, и тогда они не имеют представления об Ином-Другом, а, как следствие, их время жизни всегда настоящее. Тогда возникает вопрос: что, эти люди не-труженники не в состоянии получить представление об интерсубъективном мире?
Одним из серьезных затруднений в предлагаемом тексте Левинаса является то, что довольно сложно однозначно отождествить гипостазированную инстанцию, которая является моим Я. С одной стороны, Левинас говорит о сознании как разрыве в анонимном бытии и которому посредством света даны предметы этого мира. С другой стороны, речь идет о материальности субъекта, которая характеризуется как самовозвращение в самого себя, как занятость сами собой. Тут мы вправе задать вопрос о том, кто же является этим субъектом? Можно ли ставить терминологический знак равенства между такими категориями как сознание, субъект, материальный субъект в мире в теории Левинаса? Логично задать и следующий вопрос: какой Другой, в какой форме какому Мне противопоставлен: Другой как другое сознание или как материальное тело?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "ЭММАНЮЭЛЬ ЛЕВИНАС: ПУТЬ К ДРУГОМУ"
Книги похожие на "ЭММАНЮЭЛЬ ЛЕВИНАС: ПУТЬ К ДРУГОМУ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "ЭММАНЮЭЛЬ ЛЕВИНАС - ЭММАНЮЭЛЬ ЛЕВИНАС: ПУТЬ К ДРУГОМУ"
Отзывы читателей о книге "ЭММАНЮЭЛЬ ЛЕВИНАС: ПУТЬ К ДРУГОМУ", комментарии и мнения людей о произведении.