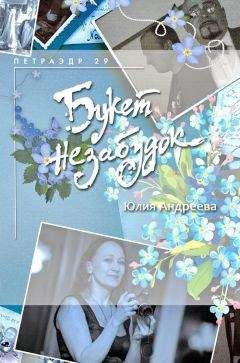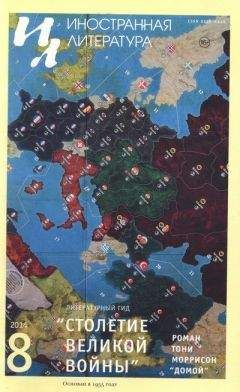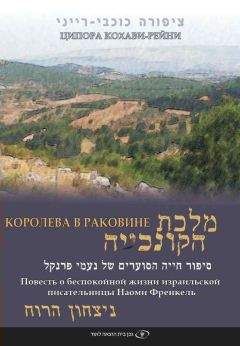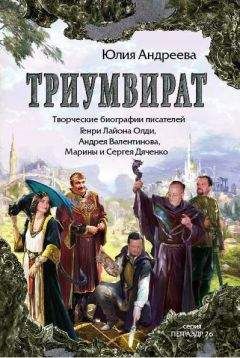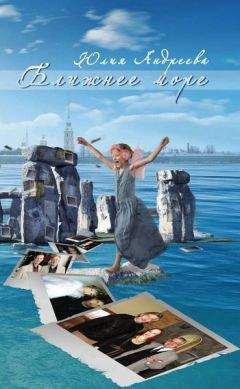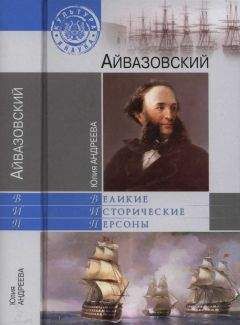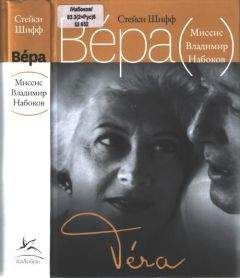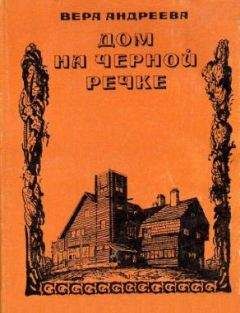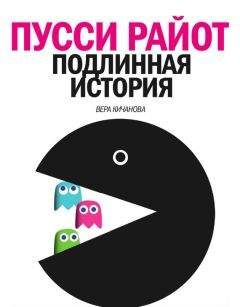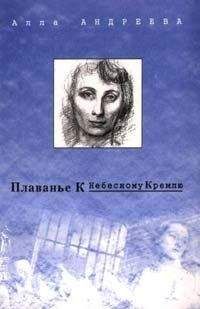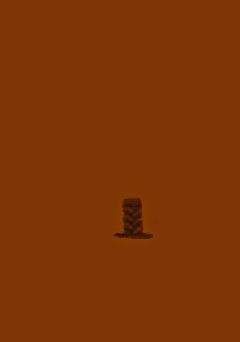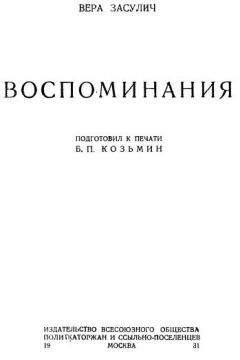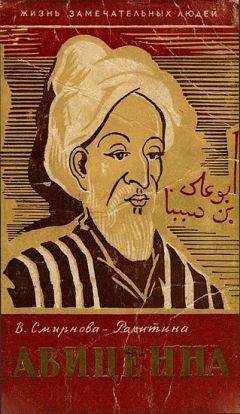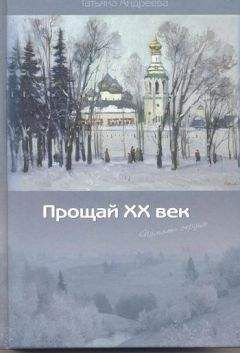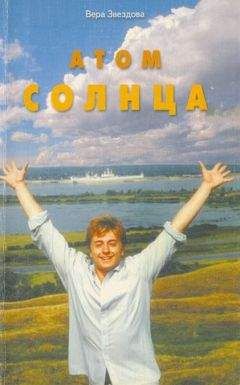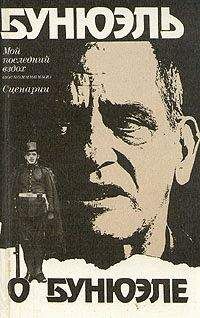Вера Андреева - Эхо прошедшего

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Эхо прошедшего"
Описание и краткое содержание "Эхо прошедшего" читать бесплатно онлайн.
Роман «Эхо прошедшего» Веры Андреевой, дочери известного русского писателя Леонида Андреева, 115-летний юбилей со дня рождения которого отмечается в этом году, является продолжением книги «Дом на Черной речке».
Вера Леонидовна была знакома со многими замечательными людьми: Мариной Цветаевой, Константином Бальмонтом, Сашей Черным, Александром Вертинским. Рассказам о встречах с ними, а также о скитаниях вдали от родины, которые пришлись на детство и юность писательницы, посвящена эта книга.
Вдруг сзади послышался шум, все присутствующие встали и как по команде опустили головы в благоговейном молчании. Я скосила глаза на проход и увидела великолепно одетых прислужников, держащих на плечах золотые ручки носилок, на них восседал в кресле под балдахином с бахромой сухой носатый старик в расшитой блестящей мантии и высокой тиаре на голове — крест на ней так и сверкал бриллиантами. Сзади носилок шли еще двое прислужников с огромными опахалами из страусовых перьев, которыми они равномерными движениями обмахивали старика. Папа милостиво кивал направо и налево, благословляя народ поднятой рукой. Большой перстень при каждом повороте руки сыпал снопами разноцветных огней. Что-то варварски великолепное было в этом зрелище, что-то древнеязыческое. Наверное, так носили египетских фараонов и библейских царей.
Церемониальным маршем папу поднесли к возвышению, рабы, то есть прислужники, преклонили колена, он сошел с носилок и опустился на трон. Только тогда кардиналы и остальной народ осмелились снова занять свои места, а слуги с опахалами встали позади трона и продолжали махать своими страусовыми перьями над головой папы. Началась длинная церемония, папа долго что-то вещал по-латыни, потом вышел еще один священник в черном, стал перед троном на одно колено и низко склонил неприкрытую голову. Папа привстал, сказал еще что-то невразумительное, благословил коленопреклоненного, подняв сухонькое личико к небу, взял поданный ему слугой длинный блестящий меч и три раза легонько ударил плашмя по спине будущего кардинала. Мне тут же вспомнилось посвящение в рыцари при дворе короля Артура. Появился еще один слуга и набросил на нового кардинала лилово-красную мантию. Тот склонился еще ниже и поцеловал папе ногу, вернее, тот огромный сапфир, который красовался на самом кончике папской туфли, на загнутом по-турецки носке. Только после этого новый кардинал встал с колен и сел на приготовленное кресло. На этом церемония посвящения в кардиналы и закончилась. Папа еще коротко помолился, сложив руки ладонями к себе и зажмурив глаза, потом все пришло в движение: кардиналы один за другим преклоняли колено, целовали туфлю и выходили из зала. Перед троном образовалась длинная цепь верующих, стремящихся в свою очередь облобызать драгоценный камень на туфле, которую папа для удобства выставил немного вперед, и получить его благословение. Тетя Толя как католичка тоже встала в очередь, а я будучи православной, то есть еретичкой, к счастью, была избавлена от этого обряда и стояла в стороне, размышляя о виденном и о том, что все это, однако, происходит в нашем XX веке…
Мы с Тином очень любили приходить на площадь святого Петра — она ограничена кругом колоннад, которые как два крыла охватывают ее с двух сторон. Точно посередине площади стоит высокий обелиск, вывезенный из Египта, а по бокам его два великолепных фонтана мощно и высоко извергают к небу ледяную прозрачную воду, всю в белой пене и брызгах. В летнюю жару большие плиты площади были раскалены чуть не добела разящими лучами «соле дель лионе» — львиным солнцем Рима. Стараясь не дышать, мы чуть ли не рысью устремлялись к фонтанам. Свеж и прохладен был воздух, напоенный мельчайшей водяной пылью, оседая сединой в волосах. Мы совали руки в ледяную бурлящую воду, брызгались ею и радостно хохотали. Камни вокруг фонтанов позеленели от непрестанно брызжущей воды, в щелях между ними рос даже низенький бархатистый мох. В полуденный зной на огромной площади виднелись только фигуры одиноких туристов, которых сразу можно было узнать по невероятному количеству фотоаппаратов, гирляндами свисавших с их плеч. Вот долговязый англичанин в клетчатом пиджаке и с тропическим шлемом на голове, смотря в открытый «Бедекер», делает несколько неверных шагов в сторону, спотыкается, внимательно глядя то в «Бедекер», то в землю. Вот он ставит аккуратно рядышком ноги и с торжествующим видом, вытянув шею, как кулик на болоте, долго смотрит по сторонам. Дело в том, что посередине площади, слегка влево от обелиска есть отмеченная плита. Если встать на нее и посмотреть на колоннады, опоясывающие площадь, то кажется, что в ряд стоят не четыре колонны, как это было на самом деле, а всего одна, остальные скрывались за нею.
Мы много раз входили по широким ступенькам в храм святого Петра, размеры которого поражают воображение: площадь пола настолько велика и пустынна, что напоминает самую площадь, окруженную почему-то стенами, уходящими в непостижимую высь. Нам говорили, что внутри храма могла бы свободно поместиться кремлевская колокольня Ивана Великого и еще много осталось бы места под сводом купола. Страшно идти напрямик через пустое пространство пола, непонятная робость одолевает человека, остро чувствующего свое ничтожество перед лицом молчаливых, замерших в своем отчуждении грандиозных стен. Ближе к алтарю тягостное ощущение пустого пространства несколько разбивает скульптурная композиция, изображающая коленопреклоненного папу перед алтарем.
Однажды мы все — Нина, Саввка, Тин и я — под предводительством мамы решили подняться к куполу, где был выход наружу. Оттуда был виден весь «вечный город» — так говорила мама, которая, конечно, там была раньше с папой.
Темные кривые лестницы с узкими и высокими, вытоптанными ступеньками, бесчисленные повороты и переходы, от которых кружилась голова, наконец кончились, и в узкую дверь забрезжил дневной свет. Мы вышли на узенькую галерею с перильцами. С одной стороны уходила ввысь грандиозная выпуклость купола, с другой предстала нашим ослепленным глазам яркая панорама города. Мама старалась не прикасаться к перилам, не рискуя поглядеть вниз, а все прижималась к стене, хотя вниз смотреть было не так страшно: там еще был кусок крыши храма. Было прекрасно видно вдаль, так что мы различили и семь холмов, на которых лежит Рим, и извилистую мутно-желтую ленту реки Тибра, и отдельные здания и улицы. Вон Капитолий, вон круглая башня Сант-Анджело, вот в своей ненужной громоздкости несуразная белая постройка монумента Витторио Эмануэле. Площадь святого Петра с этой высоты казалась совсем небольшой и кругленькой, посередине спичечкой торчал обелиск, по его бокам над крошечными фонтанчиками неподвижно застыли белые пятна воды. Слева тесно к стене храма примыкало сплетение крыш и выступов Ватиканского дворца — сверху было видно, какую громадную площадь он занимает и как велики его владения вокруг с садами, дворами, хозяйственными постройками.
Мы обошли по галерейке весь купол и увидели, что сзади храма город, собственно говоря, кончался, и за редкими белыми зданиями уже виднелся невысокий зеленый холм, а вдали туманно-серое пространство Кампаньи с синими очертаниями Апениннских гор.
Вернувшись к двери, мы увидели, что в толще купола сделана, оказывается, совсем узенькая лестница, которая вьется спиралевидно вокруг него. Естественно, мы тотчас же туда устремились. Свет падал через зеленоватые непрозрачные стекла купола на выпукло-изогнутую противоположную его стену.
По мере того как мы шли, проход становился все уже, а стены наклоннее. Наконец перед нами предстала маленькая дверца, и мы осторожно ступили в закрытую круговую галерейку, с небольшими оконцами в обеих ее стенах. Окошко открывалось внутрь храма святого Петра, с самой высокой точки купола была видна с птичьего полета внутренность здания. Будто я поднялась на каких-то мощных крыльях под самый купол и гляжу, замерев, вниз в эту головокружительную пустоту. Это был вид внутрь здания, возведенного человеческими руками, здания, ограниченного стенами, и жутко было видеть на сумеречном дне этой пропасти застывшие крошечные фигурки людей, похожих на маковые зернышки, рассыпанные чьей-то огромной рукой по дну большого блюда… Неповторимое, уникальное в своей грандиозности и величии зрелище, равного ему нет во всем мире!
Была еще одна винтовая лесенка, ведшая через короткую башенку-основание в пустотелый металлический шар, на котором воздвигнут гигантский золотой крест собора. В этом шаре могут, как сказано в «Бедекере», поместиться двадцать человек, и Саввка, конечно, полез туда; вернувшись, он объявил, что в шаре была несусветная жара, а смотреть некуда.
Выйдя на площадь, мы долго смотрели на грандиозное здание, на купол, казавшийся отсюда таким соразмерно-воздушным, на совсем незаметное основание шара, который блестящей бусинкой уже в самом небе поддерживал маленький золотой крестик. И подумать только, что в той бусинке помещается двадцать человек!
…Мама с Саввкой все еще не возвращались из Финляндии, Саша Черный с Марьей Ивановной давно уехали от нас, и мы оставались одни с бабушкой Анной Яковлевной и тетей Наташей в довольно-таки опостылевшем доме на виа Роверето. Все так же великолепно раскидывала свои перистые листья наша пальма во дворе, так же душно пахли цветущие олеандры, так же лиловы и ароматны были гроздья глициний на стене сарайчика, но все это стало привычным, обыденным. Мы мечтали о новом путешествии, пусть даже это путешествие должно нас привести в неведомую Чехословакию, которую и на карте-то мы не любили рассматривать. Уж очень уныла и однообразна была эта карта — ни тебе больших озер, ни морских заливов, ни уютно изрезанных островов… И название-то малопривлекательное: Чехия, Моравия и Силезия! Что мы о них знали? Только туманные сведения о том, что раньше эти земли входили в состав Австро-Венгерской империи, а после окончания первой мировой войны в 1918 году отделились и образовали самостоятельное государство Чехословакию. Мама решила переселиться туда под влиянием знакомых. По рассказам, жизнь в этой Чехословакии была налаженной и высококультурной — и, что особенно привлекло маму, там жило много русских эмигрантов, к которым власти хорошо относились. Университеты были полны русской молодежи, попавшей сюда из Константинополя, Болгарии, Югославии и получавшей государственную стипендию, а главное, в столице Чехословакии Праге была открыта русская гимназия с бесплатным обучением.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Эхо прошедшего"
Книги похожие на "Эхо прошедшего" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вера Андреева - Эхо прошедшего"
Отзывы читателей о книге "Эхо прошедшего", комментарии и мнения людей о произведении.