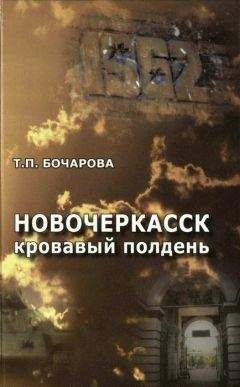Павлюченков Алексеевич - «Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "«Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг."
Описание и краткое содержание "«Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг." читать бесплатно онлайн.
Философия нигилизма по отношению к советской эпохе в свою очередь не прошла испытание временем, выступив лишь в качестве идеологического сопровождения кризисных процессов в обществе. Актуальность опыта КПСС не исчезла с поражением коммунистической доктрины. Обращение к истории периода советского коммунизма говорит о том, что для него были присущи те же традиционные противоречия, которые изначально определили феномен российской цивилизации и ее устойчивое своеобразие. Книга содержит конструктивную критику политической истории большевистского периода. Проводится анализ исторических оснований системы советского коммунизма и ее связи с современными проблемами государственного строительства.
Для всех интересующихся историей России начала XX века.
Особенный поворот событий имел место в Иркутске. После отъезда секретаря губкома Гриневича в Москву на XIII партконференцию, в Иркутске объявилась оппозиция во главе с губпрокурором (переброшенным недавно из Одессы), а также и.о. начальника губернского ГПУ. Оставшийся состав бюро губкома «потерял всякую линию», занял «буферную», прямо двойственную позицию. На районных собраниях «буфера» внесли полный сумбур, выступая то за оппозицию, то за Цека[627]. В результате почти все районы Иркутска перешли в оппозицию. Только с возвращением Гриневича положение восстановилось. Дискуссия прошла по всей губернии, все уездные организации высказались за линию ЦК, за исключением 2―3 волостей, в которых имели место уклоны, а иногда и просто нелепости. Нечто в этом роде случилось и в Томске, где помимо прочего в связи с дискуссией выяснилась слабая сторона бюро губкомов, составленных по должностному принципу[628].
Страстное и долгое обсуждение вопроса о внутрипартийной демократии происходило на районных конференциях столицы. В рабочих ячейках Москвы оппозиция имела менее 1/5 состава ячеек, в вузовских ячейках — значительное большинство. Согласно отчету московского горкома партии, в январе 1924 года в Москве из 413 рабочих партячеек 346 (всего 9843 человека) поддержали линию ЦК, 67 ячеек (2 223 человека) голосовали за платформу оппозиции. В вузовских партячейках за линию ЦК голосовали 32 ячейки (2 790 человек), за оппозицию — 40 ячеек (6 594 человека). «Здесь оппозиция имела полный успех», — признается в обзоре Цека. В советских организациях за линию ЦК выступила 181 первичная организация, за оппозицию 22 организации[629]. Следовательно, в столице даже при сильнейшей «организации» голосований со стороны аппарата, Троцкий и его сторонники еще сохраняли существенное влияние на настроение значительной части партийных низов.
По вопросу о внутрипартийной демократии критика оппозиции сводилась к тому, что большинство ЦК задерживает проведение в жизнь нового курса, аппарат ЦК пристрастно освещает и подбирает материалы дискуссии в «Правде» в целях борьбы со свободным обсуждением вопросов. Все это основывалось на заявлениях, что с резолюцией Политбюро ЦК и Президиума ЦКК оппозиция целиком согласна[630].
В области экономической политики оппозиция, в основном соглашаясь с платформой, выдвинутой пленумом ЦК 25 октября 1923 года, предлагала ряд поправок, касающихся усиления планового начала, товарной интервенции предметов широкого потребления и т. п. Обвинений партруководства в непонимании хозяйственного положения страны и объявления тезисов ЦК полностью неправильными (как это прозвучало 29 декабря в содокладе Пятакова в Колонном зале Дома союзов) на райконференциях не случилось.
Принятые на районных партконференциях резолюции по вопросу об отношении к линии ЦК по платформам от 5 и 25 декабря 1923 года показали, что большинство коммунистов московской организации— 65,2 % одобряют линию ЦК, за оппозицию высказались соответственно 34,8 %. Хамовнический район стал единственным, где в райком прошло большинство от оппозиции. Районные партконференции определили состав и настроение 11-й московской губконференции в начале января, где из 407 делегатов за Цека определились 325, за оппозицию — 61 человек. Губконференция по докладу Каменева и содокладу Преображенского всецело одобрила линию ЦК и высказалась против всех фракций и группировок в партии, объявив действия и предложения оппозиции ошибочными.
В дискуссии помимо двух упомянутых составляющих: бюрократия против Центрального комитета и низы против бюрократии, выделилась особенная линия — военные против партийных за своего любимого вождя Троцкого. Помимо прочего дискуссия по ведомствам показала, что позиции Троцкого были сильнее всего там, где он являлся или когда-то был руководителем. Он умел быть популярным среди своих подчиненных и своих не забывал. Так, 75 % ячейки НКПС выступили за оппозицию, поддержав своего бывшего наркома. Но совершенно особой статьей в ходе дискуссии стали события в армейской среде. Вторая половина 1923 года вообще оставила после себя множество точек жесткого соприкосновения армейских и партийных интересов, в которых сепаратизм Военведа преломился о волю партаппарата.
Важным эпизодом стали осенние сборы территориальных частей Красной армии. Сборы по стране прошли более менее удовлетворительно, но в столицах они послужили поводом для обострения конфликта между политуправлениями армии и столичными парткомами. Эта сфера к тому времени не была достаточно размежевана и отрегулирована, развивалось соперничество между политорганами и парткомами за политическое влияние в казармах. В 1923 году партаппарат активно стремился овладеть руководством ячейками РКСМ в армии и на флоте. Политорганы армии старались не пускать партийные комитеты в воинские части, ссылаясь на постановления съездов РКП(б), которые установили, что политорганы армии приравнены к общепартийным органам и полностью руководят всей партийной работой по военной линии.
Партийные комитеты, давно привыкшие чувствовать себя полновластными хозяевами, считали положение ненормальным, когда на их территории имеются зоны, скрытые от их политического влияния и защищенные толстыми стенами казарм от их руководящих указаний. Армейский ведомственный сепаратизм раздражал и пугал, поэтому некоторые парткомы посчитали, что начинающиеся регулярные террсборы (призыв гражданских на краткосрочные военные сборы) являются хорошим поводом и средством для подрыва военведовской автономии. Они решили показать, кто здесь хозяин.
В результате, в некоторых очень важных городах, в частности в Москве, первые террсборы прошли из рук вон плохо, сопровождались недовольством призываемых, провокационными толками о близкой войне и, как следствие, дали массууклонистов. Политическое и военное значение сборов по столице оказалось напрочь смазанным. В конце октября начпура Антонов-Овсеенко направил в Оргбюро резкое письмо с протестом против позиции московского комитета партии в кампании сборов и возложил всю ответственность за провальное проведение сборов на МК РКП(б)[631]. Главным образом ПУР был возмущен позицией МК, который исходил из того, что ему принадлежит руководство всей партийной работой в воинских частях в столице и что за политорганами армии остается только культурно-просветительный сектор. Антонов-Овсеенко требовал, чтобы МК ликвидировал созданный им институт военных организаторов для работы в частях.
Это письмо было выпадом не только в адрес МК. Чего хорошего мог ожидать ПУР по этому вопросу от сталинского Оргбюро? Естественно, комиссию, в которой бы преобладало мнение Секретариата и терпело унижение достоинство ПУРа. Так оно и вышло. На заседания комиссии Цека о формах взаимоотношений между парторганизациями и военно-политическими органами в Москве и назначенные доклады в Оргбюро Антонов-Овсеенко демонстративно не являлся. В конце концов, Секретариат согласился на то, чтобы принять доклад о предстоящих весенних территориальных сборах от помначпура Павловского. Из его сообщения выяснилось, что помимо Москвы, невнимательное отношение к сборам было проявлено со стороны воронежского и екатеринославского губкомов. Но исключительно неприязненные отношения сложились между штабом петроградского военного округа и петроградским губкомом[632].
Постановление Секретариата от 16 ноября, адресованное парткомам, было выдержано в духе товарищеской корректности: издать, обязать, оказать, предложить, поддержать и т. п. Парткомам было вменено в обязанность оказывать поддержку сборам решительно во всем. Текст постановления умалчивал лишь о том, что секретарям должно было быть понятно и без слов. Поддержку следует обращать в пользу неуклонного усиления позиций парткомов в армейской среде. Кроме этого ПУРу было отказано в самой малости, в просьбе призывать коммунистов на сборы на неделю раньше основного контингента для политинструктажа. Секретариат понял эту просьбу по-своему. Решено, что инструктаж коммунистов конечно необходим, но проводить его должен партком и перед призывом на сборы[633].
Шла борьба за умы переменного контингента — либо он будет приносить в армию идеи общепартийного руководства, либо он будет выносить оттуда в общество установки армейского командования. Кстати, в эти дни, в видах этой борьбы Оргбюро по рекомендации Совещания завотделами признало необходимым учредить военно-политическую газету на паях с ПУРом, предполагая усиление идеологического влияния партии на армию. Отсюда берет свое начало известная газета «Красная звезда», номера которой стали выходить с нового 1924 года в самый разгар схватки партийного и армейского руководства.
Помимо прочего территориальные сборы показали, что авторитет Соввласти крепок среди крестьянства. В некоторых регионах явка переменного состава превысила 100 %. Моральное состояние призванных оценивалось более чем удовлетворительно, призываемые являлись на сборы с красными знаменами и песнями. И это несмотря на тот любопытный факт, что на юге страны территориальный комсостав в большинстве своем когда-то служил в белой армии. Наряду с этим террсборы выявили, что в культурном отношении деревня откатилась далеко назад по даже сравнению с периодом гражданской войны. В материале «ПУРа приводились такие цифры: если в одном из уездов Воронежской губернии в 1919 году насчитывалось 8 библиотек, 79 изб-читален и 104 школы, то в 1923 году таковых имелось только 3, 9 и 12 соответственно[634]. Около 90 % крестьян оказались частью полуграмотные или неграмотные вовсе. Политическое развитие призванных вызывало изумление, некоторые не имели понятия, кто такие Ленин, Троцкий, Калинин (и уж тем более Сталин)[635].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг."
Книги похожие на "«Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павлюченков Алексеевич - «Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг."
Отзывы читателей о книге "«Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.